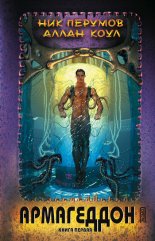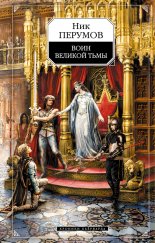Три возраста Окини-сан Пикуль Валентин
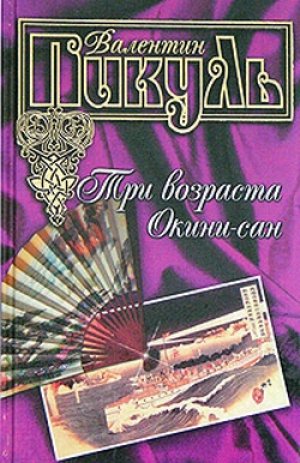
…
Адмирал Лесовский нарочно перегнал лихого «Разбойника» в Чифу, чтобы поддержать «Наездника» в его одиночестве, и китайские канонерки убрались в Вэйхайвэй. Англичане были явно шокированы высоким маневренным мастерством русских, командир крейсера нанес офицерам клиперов краткие вежливые визиты. Однако международной дружбы кораблей, какая обычно завязывается на пустынны рейдах, не возникло. Да и откуда ей быть?..
Капитан второго ранга Деливрон появился в кают-компании «Наездника», широким жестом выставил шампанское:
– Если вы такие бедные, так вот вам за разбитый блок…
Его спрашивали – какие новости на эскадре?
– «Дядька Степан» ногу сломал. Во время шторма. Разлетелся, как всегда, по палубе и ногой под вантину – крак! Теперь флагманская «Европа» заляпана гипсом, словно больница. Но старик счастлив: его Клавдия Алексеевна облачилась в балахон Красного Креста, что дает ей право быть подле мужа на корабле. Очень милая и симпатичная особа…
Пребывание на рейде Чифу было столь тягостно, что впору запить, посему офицеры клиперов договорились вообще не пить ничего, кроме чая. Оттого и разговоры были серьезные, без присущего морякам «трепачества». Молодежь с «Наездника» не могла налюбоваться на кавторанга Деливрона – это был человек смелый и дерзкий! Потомок французских аристократов, которые спасались от гильотины в России, он наперекор истории выписывал чересчур сложную циркуляцию. Внук роялистов, кавторанг превратился в ярого демократа, высказывая порой страшные вещи о неизбежности революции в России, но, как истый француз, перестрадавший катастрофу под Седаном, он не забывал лягнуть и Германию:
– Немцы утверждают, будто мы, скифы, владея мощью армии и флота, помогаем кайзеру душить стремление немцев к революции, и она бы непременно случилась в Германии, если бы не мы, русские вандалы, со своими гармошками и блинами, с балалайками и самоварами. Но помилуйте! – восклицал Деливрон. – Россия давит на свободу в Германии, она сдерживает всю эту сволочь во главе с Бисмарком и его генералами. Мы еще посмотрим, – угрожал Шарло, – кто после моей Франции начнет революцию раньше – отсталая Россия или передовая Германия?..
Больше месяца «Наездник» с «Разбойником» томились в Чифу, выжидая разрыва дипломатических отношений. Наконец, пощадив их, Лесовский пригнал «Забияку» на смену одному из клиперов – по жребию! На нейтральной палубе «Забияки» бросали жребий: «Наезднику» выпало счастье покинуть опостылевший рейд. Забрав от посольства в Пекине обширную почту для «дядьки Степана», клипер уже снялся с якоря, когда вдруг вспомнили, что на берегу оставили белье в стирке – у китайских прачек. И хотя жаль было терять почти все исподнее и постельное, но желание убраться из Чифу оказалось сильнее:
– Черт с ними, с этими тряпками, наживем другие…
После быстрого бега по волнам перед ними открылась прекрасная панорама Нагасаки. «Наездник», словно гарцуя в манеже, четко обрезал корму флагманской «Европы» и подлетел к «Джигиту», сверкая покрашенными бортами:
– Эй, джигиты! Как дела в Нагасаки?
– Эскадра уходит в Иокогаму.
– А зачем – знаете?
– Нас желает видеть японский микадо Муцухито…
Разгадав нетерпение Коковцева, старший офицер сразу же отпустил его на берег, но мичман скоро вернулся на клипер, и по его лицу Эйлер догадался, что случилась беда.
– Окини-сан пропала… ее нигде нет.
Да, опустела Иноса, золотые рыбки в пруду перестали вилять золотыми хвостиками. А ресторатор Пахомов сам ничего не знал и вернул мичману деньги, полученные из Чифу:
– Поставьте крест на ней и не мучайтесь, уж чего-чего, а этого-то добра в Японии хватает…
Ленечка Эйлер не стал утешать Коковцева:
– Скажи чистякам, чтобы привели в порядок твой парад. Муцухито будем представляться в треуголках, при саблях…
Коковцев, убежав в каюту, захлопнул иллюминатор, чтобы не видеть огней Иносы, когда-то манящих своим теплом, почти человеческим… «Все пропало! Все, все…»
…
Тронулись! Через Симоносекский пролив корабли проникли в Средиземное (внутрияпонское) море, прикрытое с океана обширным островом Сикоку; слева осталась неприметная уютная Хиросима, справа колебались на воде огни Мацуямы; ночью двигались осторожно – в карнавальной пестроте фонарей джонок слышались тягучие рыбацкие песни.
Давно уже не доводилось видеть таких чудесных ландшафтов. Покрытые хвойными лесами, высились конусы погасших вулканов, в долинах росли пальмовые и бамбуковые рощи. Русских очень удивляло множество деревень и преизбыток людского населения. Всюду купались голопузые японские ребятишки, а молоденькие японки, не стыдясь наготы, подплывали к бортам кораблей, протягивая зажатых в руках плещущих серебром рыбин:
– Тай, тай, русики! – кричали они с воды.
Это не было искаженное: «дай, дай», – японки дружелюбно предлагали русским кету (тай), только что выловленную их мужьями. Растрогавшись, лейтенант Атрыганьев сказал:
– Уж сколько я плаваю на Дальнем Востоке, а лучше Японии ничего нету. И как это замечательно, господа, что нас здесь любят, а страна эта близка нашей России…
Перед выходом в Тихий океан ненадолго зашли в Кобе, где восхищались водопадами, в шуме которых, на зеленых лужайках, ютились чайные домики с приветливыми веселыми гейшами. Атрыганьев не удержался и, взлягивая длинными ногами, показал, как пляшет канкан мадмуазель Жужу из сада-буфф «Аркадия», чем очень позабавил японок. Отсюда, от Кобе, начинались провинции, славящиеся красотой женщин. Было очень жарко. Над мостиками натянули белые прохладные тенты. Чайковский сказал, что скоро будет видна Фудзияма, а минер Атрыганьев пытался развеять печаль мичмана Коковцева:
– Золотая иголка в стоге душистого сена… забудь ее!
– Разве могу я забыть Окини-сан?
– Но забыл же ты Ольгу в Петербурге!
– Мне уже не верится, – ответил мичман, – что в Петербург вернемся. Порою кажется, здесь и останемся навсегда…
Иокогама открылась к ночи видом Фудзиямы и большим пожаром (какие в японских городах, строенных из дерева, бамбука и бумаги, случались часто). Командир стал волноваться:
– Жаль бедных японцев… чем бы помочь им?
Срочно собрали «палубную команду», приученную к схваткам с водой и огнем. Коковцев возглавил эту деловую ватагу, до зубов вооруженную топорами, переносными помпами и рукавами шлангов с «пипками». Появление русских на пожаре японцы встретили радостными возгласами. Забивая пламя водой из соседних прудов, матросы кулаками расшибали пылающие домишки, похожие на шкатулки, не давали огню перекинуться далее. Чумазые и довольные, вернулись на клипер глубокой ночью. Коковцев совсем не выспался, но его рано разбудило бренчанье посуды, перемываемой вестовыми в офицерском буфете.
– Ехать так ехать, – сказая мичман, зевая…
Поезда из Иокогамы в Токио отрывались от перрона каждые сорок минут, а шли они со свирепой скоростью, что даже удивляло. Всю дорогу офицеры простояли возле окон. Квадраты рисовых полей были оживлены фигурами согбенных крестьян, стоящих по колено в воде; над их тяжкою трудовой юдолью кружились журавлиные стаи. Русских удивляло отсутствие домашнего скота и сельской техники – японцы все делали своими руками, а широкие шляпы из соломы спасали их от прямых лучей солнца. Экспресс с гулом, наращивая скорость, проносился вдоль каналов, застроенных дачами столичных богачей и сановников императора.
Токийский вокзал, на вид неказистый, встретил гостей суматохой, свойственной всем столицам мира, только здесь было больше порядка и никто не зарился получить чаевые. В этом году открылась обширная ярмарка в парке Уэно, офицеры отдали дань почтения бронзовым Буддам в деревянных храмах, покрытых нетленным лаком, надышались разных благовоний в кумирнях, закончив утомительный день на торговой Гинзе, где за гроши скупали всякую дребедень, посмеиваясь:
– Для подарков знакомым в России сойдут любые «дровишки». Нашим что ни дай японское – за все скажут спасибо…
На следующий день состоялся парад. Офицеры с эскадрой Лесовского заняли на плацу отведенное им место, выстроившись позади русского посла К. В. Струве и чиновников его посольства. Регулярные войска Японии они подвергли суровой критике за небрежный вид, за плохое оружие. Англичане, конечно же, не удержались и продали японцам свои палаши времен Ватерлоо, которые малорослые японцы таскали по земле. Наконец показалась карета в сопровождении уланов, неловко сидящих на лошадях, впереди с развернутым штандартом проскакал адъютант микадо… Струве обернулся к офицерам:
– Господа, вы же не дети – перестаньте шушукаться!
Принц Арисугава, взмахнув саблей, скомандовал оркестру играть гимн, в мелодии которого Ленечка Эйлер сразу уловил большое влияние парижских кафешантанов, о чем он тут же и сообщил офицерам…
Струве сердито прошипел ему:
– Наконец, вы, господа, ведете себя как мальчишки…
Молоденькая микадесса Харухо лишь выглянула из кареты, моментально спрятавшись обратно, как испуганный зверек, а сам Муцухито вышел на плац – маленький подвижный человек с внимательными глазами на оливковом лице. Пересев на лошадь, накрытую травяным вальтрапом и золотыми пышными хризантемами, он неторопливо объехал войска, после чего солдаты, топоча вразброд, продефилировали перед ним в церемониальном марше. Офицеры опять подвергли критике все увиденное ими:
– Во, сено-солома… Разве же так русские солдаты ходят? Коли идут, так земля трещит! Далеко японцам до нас…
Микадо, не сказав никому ни слова, уже садился в карету, его адъютант подошел к офицерам с русских кораблей.
– Императорское величество, – сказал он, – интересуется, – кто из вас, господа, помогал тушить пожар в Иокогаме.
– Это был я, – отозвался Коковцев, заробев.
Японец укрепил на его груди орден Восходящего солнца. Мичмана поздравили вице-адмирал Кавамура и военный министр Янамото, а посол Струве приподнял над головою цилиндр. Затем было объявлено, что Муцухито, выражая морякам России особое благоволение, разрешает им осмотреть военные базы в Овари и гавань Тобо, закрытые для других иностранцев…
«Наездник» снова окунулся в сверкание моря. Доверие, оказанное японцами, приятно щекотало русское самолюбие, а Чайковский по-стариковски брюзжал, что самураи ничего путного не покажут. Высадились в бухте Миа, возле города Нагойя; влияние Европы здесь сказывалось гораздо меньше, нежели в Токио или в Нагасаки, но гостиница все же называлась «Отель дю Прогрэ» (хотя весь прогресс ограничивался наличием стульев, ножей и вилок). Спать пришлось, опять-таки упираясь затылками в жесткие макуры. Утром офицеров навестили губернатор Намура и генерал Ибисан, оба в европейских фраках и при цилиндрах; оставившие свою обувь при входе самураи нелепо выглядели в белых носках-таби. Обещая ничего не скрывать от русских, они, напротив, не столько показывали им запретное, сколько утаивали его.
Недоверчивый Чайковский бубнил:
– Я так и думал… что с них взять-то?
Зато Нагойя была чудесна! Город издревле соперничал с Киото в искусстве гейш, воспитанных на манерах «сирабуёси», истоки которых терялись в «эпохе Тоба» XII века, и русские офицеры охотно посетили уроки танцев девочек-майко, будущих куртизанок. Педагогический институт и гимназия поразили умопомрачительной чистотой. Студенты и гимназисты с особым почтением кланялись Восходящему солнцу на груди мичмана Коковцева. Это дало повод Атрыганьеву заметить, что Вовочка, при всей его бедности, может здорово разбогатеть, ежели станет показываться на Нижегородской ярмарке купцам за деньги.
– Гафф! – оскорбился мичман…
Вечером губернатор Намура устроил для русских ужин. Прислуживали японки удивительной красоты, которых портила, как всегда, густая косметика.
Во время еды, усиленно помогая русскому пищеварению, восемь почтенных стариков в белых киримонэ непрерывно стучали палками по восьми барабанам. Когда они ушли, Атрыганьев сказал:
– Наверное, сейчас нам покажут что-либо секретное, чего никто из европейцев не видел. Недаром же приказал сам микадо!
Японцы не подвели: одна из бумажных стен зала вдруг стала наполняться густым малиновым заревом и непонятным подозрительным шумом. Это явление развеселило шутников:
– Кажется, горим… не пожар ли?
Но мичману Коковцеву снова выпал случай отличиться перед японским микадо…
Присутствие в городе, из которого явилась Окини-сан, действовало на Коковцева угнетающе, он не был расположен к юмору и с мрачным видом послал шутников ко всем чертям. Стенка, за которой бушевал мнимый пожар, неожиданно исчезла. В глубокой галерее, освещенной красными фонариками, возникла волшебная пантомима. Колыша веера, гейши не столько танцевали, сколько переходили с места на место – мягкими кошачьими шажками, будто подкрадывались к добыче. А каждый их жест или поворот тела таил в себе богатую символику никому не понятных признаний и откровений.
Когда офицеры возвращались в «Отель дю Прогрэ», Чайковский сказал, что самураи ничего не показали.
– Позвольте! – хохотал Атрыганьев. – Но гейш-то они полностью разоблачили перед вами, а вам все еще мало?
– Ну их, – отвечал Чайковский. – Все они почти бестелесны, будто их вырезали ножницами из красивой бумаги. Зато вот, помню, в Алжире… Геннадий Петрович, были в Алжире?
– А как же! – отозвался Атрыганьев. – Только там я и понял, как царице Савской удалось соблазнить царя Соломона, после чего старик и впал в библейскую мудрость…
Через день, заманивая русских подальше от доков и арсеналов, японцы отвезли их на образцовую бумагопрядильную мануфактуру, губернатор Нагойи с упоением хвастал, что Япония уже обогнала несколько ткацких фабрик в Англии:
– Мы ничего от вас не скрываем! Вы сейчас и сами убедитесь, что мы работаем быстрее, лучше, дешевле…
В грохоте ткацких станков, снующих локтями деревянных сочленений, в мути едкой удушливой пыли, ряд за рядом сгибались сотни японских женщин, все как одна обнаженные до поясов, их почти детские тела маслянисто блестели от мелкого пота. Они, казалось, не видели ничего, кроме бегущего вдаль движения ниточной паутины… Офицерам флота, избалованным всякой экзотикой, было совсем нелюбопытно посещение этой сатанинской кухни; они вяло переговаривались между собою:
– Если и правда, что японки из Нагойи самые красивые, то их красоту и грацию японцы используют не совсем удачно.
– Да, эти Пенелопы быстро превратятся в старые мочалки, никакой Улисс не сыщет в них следов былой красоты.
Именно в этот момент Коковцев увидел Окини-сан… Но она-то, конечно, не видела ничего, поглощенная бегом нескончаемой нити – длиной в целую жизнь. «Как быть?..»
Коковцев подошел к ней из-за спины, сказав:
– Это я! Вечером постарайся быть в «Отеле дю Прогрэ», я дам тебе билет на пароход в Нагасаки…
Только по тому, как вздрогнули ее плечи, мичман догадался, что Окини-сан плачет. Но мичман тут же заметил, что одинаково с нею содрогаются плечи и всех других работниц, безжалостно потрясаемые чудовищным ритмом новой Японии – Японии «эпохи Мэйдзи», в которой Страна восходящего солнца не будет иметь пощады – ни к самим себе, ученикам, ни к тем, кто был их учителями… И ничего больше самураи русским не показали! А когда эскадра Лесовского вернулась в Нагасаки, берега Японии долго трясло в затяжном шторме, с домов рвало крыши, и ходили слухи, что море поглотило пять пассажирских пароходов. Коковцев не верил, что море будет безжалостно к нему и к его любви… Буря, буря! Страшная буря…
…
С тех пор как в 1588 году пират Дрейк, встречая на борту корабля английскую королеву Елизавету (известную своим безобразием), сделал вид, что ослеплен ее красотой, а потому вынужден заслонить глаза ладонью, – с тех самых пор воинское приветствие стало традицией. Правда, на флоте «козырянием» не баловались – в тесноте отсеков или на мостике людям не до этого! Но зато возле наружного трапа, при встрече начальства, офицеры надолго застывали с рукою у козырька…
Адмирал Лесовский указал клиперу «Наездник» принять вице-адмирала Кавамуру с дочерью-фрейлиной О-Мунэ-сан и посла Струве с женою; если японец пожелает видеть взрыв мины – не отказывайте ему! Прибытие высоких гостей совпало с вахтой Коковцева, и он очень долго не отрывал руки от фуражки, пока по трапу не втащили толстую Марью Николаевну, госпожу посланницу, которую не слишком-то деликатно подпихивали в «корму» фалрепные матросы, одетые в белые голландки с обрезанными рукавами. В кают-компании клипера Кавамура вел себя скромно и сердечно, удостаивая улыбкой даже «чистяков», сервировавших стол для завтрака. Он не скрывал, что раньше был сторонником сёгуната Токугава.
– Я самый настоящий японский самурай и таковым останусь, – произнес он без тени аффектации, как иные люди говорят о себе, что они блондины и перекрашиваться нет смысла…
Еще недавно самурай, покупая клинок, обретал право «мамэсигири» – отрубить голову первому встречному, испытывая на его шее остроту меча. Теперь, деклассированные «эпохой Мэйдзи», самураи кинулись к новым видам оружия – офицерами в казармы и в рубки кораблей, чиновниками в банки, заправилами на заводы, дипломатами в посольства.
После сильного шторма море еще не могло успокоиться: плоско, но тяжело гуляла океанская зыбь, которая иногда бывает хуже бури. «Наездник» бежал по волнам, красивую дочь Кавамуры укачало, и она ушла наверх. Вцепившись в снасти, фрейлина застыла над бочкой с водой, служившей матросам для бросания в нее окурков. Струве просил вахтенного офицера пригласить ее в общество к моменту произнесения тоста за дружбу двух императоров – русского и японского. Не так-то легко было оторвать красавицу от бочки! Коковцев верно рассудил, что фрейлине сейчас не до политики. Он подхватил японку на руки и, балансируя на шаткой палубе, удачно спустился по трапу в жилые отсеки. Странное дело! От волос О-Мунэ-сан исходил привычный запах, напомнивший ему Окини-сан… Словно догадываясь, как ему сейчас трудно, фрейлина крепко обняла его за шею. Бросаемый со своей ношей от борта к борту, Коковцев шел вдоль длинного офицерского коридора, из своей каюты его страдальчески окликнул пластом лежавший фон Эйлер:
– Вовочка, что за красивый мешок у тебя?
– Это не мешок – фрейлина.
– Куда ж ты ее тащишь?
– На диван. И поставлю ей тазик…
Потом мичман вернулся в кают-компанию и сказал Кавамуре, что его дочь в адмиральском салоне, где ей обеспечен приличный комфорт. Этим он заслужил одобрительный оскал зубов старого самурая… «Наездник» сильно вздрогнул, вибрируя корпусом. Струве постучал лезвием ножа по пустому месту, ибо тарелка уехала от него подальше – на другой конец стола.
– Я хотел бы отразить следующий этап в истории наших симпатичных отношений с Японией, – разливался Кирилл Васильевич (которому с большим любопытством внимала его жена), а тарелка, повинуясь законам качки, сама по себе вернулась к послу России, и Струве с большим опозданием постучал по ней ножиком.
Промокший до нитки, явился сверху лейтенант Атрыганьев:
– Честь имею доложить – мина к взрыву готова!
Кавамура поднялся из-за стола, и офицеры с уважением отметили, что боевой самурай отлично держится на палубе.
– Взрыв мины – это очень интересно для моей дочери! Завтра же она расскажет об этом случае микадессе Харухо…
Чайковский на этот намек отреагировал мгновенно:
– Вахтенный офицер, прошу вас – распорядитесь…
Коковцев отделял фрейлину от дивана с таким же рвением, с каким недавно отрывал ее от бочки с окурками. Не надеясь, что она сведуща в языке английском (а сам беспомощный в японском), мичман бестолково решил объясняться по-русски:
– Я бы вас не тревожил, но ваш отец сказал, что вы любите взрывы. Я согласен ждать, но мина ждать не станет…
Миною с «Наездника» была взорвана прибрежная скала, но фрейлина, измученная качкой, даже не дрогнула, зато ее папаша был крайне внимателен ко всем действиям русских минеров. Струве желал высадиться в ближайшей бухточке, дабы устроить пикник, но Кавамура сказал:
– Для моей дочери виденного вполне достаточно!
На прощание О-Мунэ-сан слабо пожала руку Коковцеву, после чего сказала ему на хорошем французском языке:
– Я вам так обязана, господин мичман! Если будете в Петербурге, возможно, мы с вами еще не раз встретимся. Впрочем, – добавила она, потупив глаза, – я живу на даче в Тогицу, это всего лишь десять верст от Нагасаки… Ждать ли мне вас?
К мичману, растерянному от такого внимания фрейлины, вдруг подошел вице-адмирал Кавамура со свертком в руке:
– Вы встречали меня у трапа и ухаживали за моей дочерью. Я желаю выразить вам свою признательность. – Он развернул сверток, в нем оказался самурайский меч с рукоятью, обернутой в шкуру акулы (шершавой, как наждак). – Такой меч уже никогда не вырвется из руки! Он способен одинаково хорошо рассекать пополам стальные гвозди и даже тончайший женский волос, плавающий на водной поверхности.
Коковцев отдал честь, как бы заслоняя глаза от яркого солнца. Ничто еще не было решено, да и решится все не так, как он думал. В кают-компании после отбытия гостей царил настоящий погром. Чайковский велел «чистякам» поскорее убрать осколки посуды, разбитой во время качки. Коковцев заглянул в лоцию: Тогицу лежала на берегу залива Омуру, откуда вытекала речка, бегущая прямо к Иносе.
– О-Мунэ-сан прелесть, – искушал его Атрыганьев. – Даже очень хороша… На твоем месте я бы поехал в Тогицу!
Минер пригляделся и снял что-то с плеча мичмана:
– Откуда у тебя такой длинный женский волос?
Наверное, его оставила на плече О-Мунэ-сан, когда мичман нес ее с палубы до салона. Коковцев протянул руку:
– Давай! Сейчас я этот волос разрублю пополам…
Меч оказался бритвенной остроты.
…
Потрепанный штормом пароход пришел в Нагасаки с большим опозданием, и снова зажглись фонари на террасах в иносском саду Окини-сан.
Окини-сан с нетерпением ожидала конца августа:
– Скоро будет праздник дзюгоя, и мы проведем его вместе. В этот день, голубчик, нам будет особенно хорошо…
О случившемся с нею известились офицеры эскадры, единодушно признавая, что женщина поступила благородно: «Дай-то, бог, всем нашим женам сохранить такую же верность, как эта «мусумушка»…» Все удивлялись! Но сама Окини-сан ни разу не выразила удивления тому, что Коковцев случайно отыскал ее: случайность для всех – для японки была неведомым законом постоянства любви. Коковцев лишь смутно догадывался, что у этой женщины свой необозримый мир, никак не схожий с его мироощущением. Только теперь, после долгой разлуки, Окини-сан сделалась откровеннее. Она рассказала, что ее предки три столетия подряд были заняты одним постоянным делом: они жарили угрей на продажу подобно тому, как в других семьях веками ковали мечи, плели татами или убирали мусор на улицах. Округлив свои глаза, обычно узкие, Окини-сан шептала мичману, как сложно иметь дело с коварными угрями:
– Множество злых духов сторожат их от беды, а мои предки, прежде чем жарить угрей, произносили массу заклинаний, оберегая себя и свои противни от всяческого зла…
Вскоре стало ясно: пока в Петербурге дипломаты не договорились с Пекином, клиперу с Дальнего Востока не уйти – он превратился в «стационар». Отчасти эта задержка выпала кстати: возникло немало поломок в корпусе, потекли холодильники и зашлаковались котлы, а ремонтная база в Нагасаки была отличной, и теперь японские мастера, работая на совесть, с утра до ночи ковырялись в утробе клипера. Но затянувшаяся стоянка расслабила офицеров: отстояв вахту, они спешили к своим «мусумушкам», многие из которых были уже беременны. Это никого в Иносе не тревожило, тем более что офицеры зачастую брали японок с чужими детьми, неизменно уделяя им долю и своего «отцовского» участия.
Японцы никогда не отличались рыцарским отношением к женщине. Сделать себе харакири в момент неудачи или сложить голову во славу микадо – это они умели, но… женщина?
Понятно, что русские офицеры, воспитанные совершенно иначе (традициями, литературой и понятием чести), оказывали «мусумушкам» неподдельное внимание, стараясь по-рыцарски услужить им, ибо они… женщины, и этим все сказано! В сложном быту Иносы соблюдалась удивительная, неподкупная простота. Временность стоянки лишь подстегивала чувства, а денежный вопрос здесь никого не оскорблял – его попросту не касались. По заведенному в Иносе порядку, мусумэ домашнего хозяйства не заводили, обеды заказывались в ресторанах. Жили широко и даже бездумно, в Японии тогда все стоило баснословно дешево.
Близился японский праздник дзюгоя. Ничего не зная о сути праздника, Коковцев ожидал чего-то необыкновенного, но Атрыганьев поспешил разрушить очарование мичмана:
– Дзюгоя – обычное календарное полнолуние, но японцы в эту ночь стихийно превращаются в лунатиков. Сам увидишь!
Японская женщина не имела права вмешиваться в разговоры мужчин. Но в русских компаниях, зараженные европейской общностью, японки становились веселыми, хохотливыми, иногда даже язвительными на язычок, ловко подмечая мужские слабости. Беспечные разговоры затягивались до глубокой ночи, пока кто-либо не поднимался с татами, щелкнув крышкой часов:
– Мне на вахту, господа. Ну, пока… сайанара!
В одну из таких ночей, когда гости покинули их, Коковцев спросил Окини-сан, почему она не вышла замуж, как и все порядочные женщины. Лучше бы он и не спрашивал ее об этом.
– Обещай, что не прогонишь меня, если я расскажу тебе все… Я родилась в году Тора, который повторяется каждые двенадцать лет. И все женщины моего года обречены на одиночество и презрение. Мужчины избегают нас, не желая с нами общаться. А если бы и нашелся муж, я бы доедала после него объедки, на улице я бежала бы за ним только сзади, в гостях или в доме родителей мужа, пока он там пирует, я должна бы стоять под окнами и ждать его, как собака… хуже собаки!
– Отчего такая жестокость? – поразился Коковцев.
– Потому что мы приносим мужчинам несчастья, и я боюсь, что и тебе, голубчик, доставлю горе… Зато наш сын, если он родится в год Тора, это будет для него счастьем: мужчины Тора самые смелые, их все очень любят, и что они ни скажут – все становится законом для других…
Старая токугавская Япония еще держала Окини-сан в себе, и женщина, как заметил Коковцев, радовалась тому, что его не радовало, и огорчалась тому, чего он не понимал. В пятнадцатую ночь августа все огни в Нагасаки погасли – луна вступила в свои права. Окини-сан отворила дом для лунного света.
– Разве ты не видишь, как хорошо? – спросила она. – Я угощу тебя сладким моти, мы будем есть прекрасное дзони…
На низенькой подставке женщина с большим вкусом создала великолепный натюрморт из цветов и фруктов, она обсыпала его зернами риса. А фоном для этой картины служило небо, и женщина просила сесть лицом к лунному свету, отчего Коковцев испытал очень странное волнение: женщина – ночь – луна – затишье – вечность…
Ему снова подумалось, что душевный мир японки гораздо богаче, нежели его мир. Тихо, почти шепотом, она спросила:
– Нас никто не слышит?
– Нет.
– А мы с тобой вместе?
– Да.
– И ты меня любишь?
– Да…
Удивительный праздник еще не закончился!
…
Желая подтянуть своих разболтавшихся офицеров, Лесовский выгнал эскадру в море на практические стрельбы. Коковцев по боевому расписанию руководил носовым плутонгом. Там возле пушек стояли кранцы (ящики), в которых береглись снаряды «первой подачи», заранее франтовато начищенные – на случай начальственных смотров. Дула орудий, чтобы в них не попала морская вода, были заткнуты особыми пробками. Хотя всем ясно, что перед стрельбой пробку надобно из дула вынуть, но в практике русского флота бывали прискорбные случаи, когда, торопясь с открытием огня, вынуть ее забывали.
– Вы об этом помните, – предупредил Чайковский.
– Есть! – обещал Коковцев…
Корабли расстреливали в море пирамиды артиллерийских щитов. «Наездник» тоже нащупал цель. Огонь! И с первого же выстрела, опережая в полете снаряд, с грохотом и дымом вылетела эта дурацкая пробка. Лесовский с флагмана запрашивал: «Чем стреляли?» Пришлось честно сознаться: «Пробкою». «Дядька Степан» распорядился оставить командира носового плутонга на всю неделю без берега. Чайковский бранил Коковцева:
– Вы еще смеете извиняться! Лучше скажите мне спасибо, что к дверям вашей каюты я не поставлю часового с ружьем, иначе даже в гальюн будете бегать под конвоем…
Эйлер сообщил Коковцеву, что «Наездник», кажется, оставят в Сибирской флотилии с базированием на Владивосток:
– Тогда я сразу же подаю в отставку. Я давно мечтаю учиться в парижской «Ecole Polytechnique», а здесь что?
Коковцев сказал, что останется на клипере:
– Тем более сибиряки ходят на докование в Нагасаки.
– А! Вот ты о чем. Но, послушай, – доказывал ему Эйлер, – нельзя же строить планы жизни, учитывая и эту японку. В конце концов, все мы небезгрешны. Но, вернувшись на Балтику, самой жизнью и наличием эполет мы осуждены создавать семейное счастье по общепринятым образцам. Разве не так?
– Может, и так, – пожал плечами Коковцев…
В кают-компании клипера иногда возникали разговоры о Японии: друг она или затаенный враг? Мир уже испытал первые уколы японской агрессивности, но политики Европы, кажется, восприняли их как некую «пробу пера», сделанную самураями на лишней бумажке, которую впору выкинуть. Эйлер говорил:
– Пока японцы лишь удачно копируют окружающий мир. Но что станется с Японией, если она, как разогнавшийся паровоз, слетит со стандартных рельсов и помчится своим путем? Если Японии надо бояться, то… когда начинать бояться?
Петр Иванович Чайковский неожиданно заговорил, что если Япония и правда затаила в себе будущую угрозу России, то эту угрозу надо учитывать без промедления.
– Вот с этого дня, и не позже! – сказал старший офицер. – Кавамура еще способен воевать с китайцами и корейцами, но те адмиралы, с которыми нам, очевидно, придется еще сражаться на океанской волне, служат пока гардемаринами и мичманами… Вы, молодые люди, не верите мне? Жаль. Тонуть-то вам, а не мне. Я буду уже на пенсии, играя по вечерам в кегельбан на Пятой линии Васильевского острова… Вот там можете и навестить меня тогда – на костылях!
Никто не пожелал развивать эту тему дальше, а Окини-сан была восхитительна, как никогда. Коковцев еще ни разу не застал ее врасплох, неряшливо одетой или непричесанной. Как она умудрялась постоянно быть в форме – непонятно, но, даже проснувшись средь ночи, мичман видел ее с аккуратней прической, лицо женщины казалось только что умытым, а глаза излучали радость. И не было еще случая, чтобы Окини-сан хоть единожды вызвала его недовольство. Но даже когда он сам бывал виноват, японка сохраняла нерушимое спокойствие, ничем не выразив своей обиды… А осень была томительно жаркой, на ночь раздвигали стенки дома прямо на рейд, и, лежа подле Окини-сан, мичман видел вспыхивающие клотики кораблей, огни Нагасаки, с неба струились отсветы дальних звезд…
– Ты не спишь, голубчик?
– Не спится.
– Хочешь, я расскажу тебе сказку?
– Да.
– Но она очень смешная.
– Тем лучше.
Возле своих глаз он увидел ее блестящие глаза:
– Далеко на севере жил-был тануки…
– Кто жил? – не понял Коковцев.
– Тануки. Тануки жил очень хорошо. Он любил музыку, а животик у него был толстенький… как у меня! Когда наступали зимние вечера, тануки стучал себя лапкой по животику, будто в барабанчик, и ты смотри, как у него это получалось. – Распахнув на себе кимоно, Окини-сан выбила дробь на своем животе. – Разве тебе не смешно? – спросила она.
– Очень. А что дальше?
Пальчиком она провела по его губам:
– А сейчас ты начнешь смеяться, голубчик…
И он действительно смеялся над проделками японского зверька тануки, делового и хитрого. Но сюжет этой сказки Коковцев помнил со слов деревенской няни, только ее героиней была хитрая русская лисичка с пышным хвостом. С этим он и заснул, преисполненный удивления. На его плече спала Окини-сан, которая в любой позе сохраняла сложную прическу «итагаэси». Отверженная, она ведь знала, что много будет в ее жизни разных причесок. Но никогда не собрать ей волосы в купол «марумагэ», как это делают замужние женщины. Ей доступно лишь то счастье, которое она дарит другим…
Утром в Нагасаки ворвался клипер «Разбойник»!
…
Амбушюр переговорной трубы, опущенный с мостика в кают-компанию, хрипло выговорил, что «Разбойник» собирается резать корму адмиральской «Европы». Чайковский поленился идти наверх, уверенный, что Шарло Деливрон проделает этот маневр идеально. Коковцев видел бурун под носом клипера, когда он первый раз обрезал корму флагмана. Но «дядька Степан» велел обрезать корму еще круче. «Разбойник» разошелся с крейсером уже в одной сажени. «Ближе!» – потребовал Лесовский, после чего раздался скрипучий треск дерева и звон стекол…
– Все в порядке? – спросил Чайковский офицеров, гурьбой спешивших по трапу с палубы обратно в кают-компанию.
– Теперь порядок: «Разбойник» без носа, а на «Европе» все стекла вылетели. На эскадре сразу два инвалида!
Чайковский со вздохом отложил загасающую «манлу»:
– Вот уже второй раз Шарло гробит свою карьеру – с треском! Сейчас по лихости, а на Балтике, когда плавал старшим офицером на придворной «Александрии», по забывчивости…
– Но! – предупредил Атрыганьев. – Не станем наивно полагать, что у Шарло не было расчета и сейчас, когда он разворотил свой форштевень о балкон адмирала. Теперь, когда нос клипера всмятку, «дядька Степан» уже не пошлет «Разбойника» торчать на чифунском рейде…
Старший офицер сделал минеру строгое внушение:
– Геннадий Петрович, при всем моем уважении к вам, должен, однако, заметить, что нравы нашей эскадры не дают вам никаких оснований думать о нашем коллеге столь нехорошо.
– Извините, – покаялся Атрыганьев. – Я уважаю капитана второго ранга Карла Карловича Деливрона, но мне показалось странным, что он, способный «чокнуться» с нами нока-блоками, вдруг не сумел развернуть клипер в обрезании кормы.
– Его подвел глазомер, – заключил беседу Чайковский…
Ближе к зиме в Нагасаки усилилась влажность воздуха, отчего начал разлагаться порох в корабельных крюйт-камерах. А зима, по словам Чайковского, выпала очень суровой – по ночам термометры отмечали –1°. Однажды выпал и снег, русским было непривычно видеть под снегом хурму и хризантемы. Но японцев это не заботило: раскрыв над собой бумажные промасленные зонтики, они спешили по своим делам, на спинах курток дженерикш, ожидающих седоков, снег засыпал большие номера (какие носили и кучера в русских городах).
Христианское Рождество не волновало безбожную Окини-сан, поклонявшуюся, как язычница, травам и воде, цветам и камням, зато новый, 1881 год она мечтала встретить с Коковцевым.
– Если клипер оставят на рейде, – обещал ей мичман.
Чайковский что-то долго подсчитывал на бумажке:
– Господа! На рейде двадцать восемь иностранных килей под военными вымпелами. Каждому кораблю наш клипер обязан принести поздравления с Рождеством. Следовательно, каждый из офицеров выпьет двадцать восемь бокалов с шампанским – при условии, если над каждым килем выпивать по одному бокалу.
Атрыганьев сказал, что двадцать восемь бокалов даже для него многовато, тем более в кают-компании клипера немало молодежи, которая пить еще совсем не умеет. Лейтенант добавил:
– Конечно, я охотно провел бы с мичманами тренировку, но до рождения Христа осталось мало времени, боюсь, что после третьей бутылки мичман фон Эйлер уже не услышит, когда на крейсере «Оклахома» американцы, танцуя джигу, станут орать ему в самое ухо: «Янки дудль дэнди»!
– Я пас, – не стал возражать Эйлер.
– Я тоже, – сознался Коковцев.
– Все ясно, – рассудил Чайковский. – Поздравления будем делать в две очереди. Когда первая партия вольет в себя дозу шампанского, эстафету от нее примет вторая группа офицеров, еще свежая и бодрая, как спешащие на урок гимназисты.
С такой же разумностью поступили на кораблях всей русской эскадры, а иностранцы, не разгадав их секрета, были удивлены похвальной трезвостью офицеров российского флота…
Новогоднюю ночь Коковцев провел с Окини-сан.
Плавным жестом руки женщина потянулась к сямисэну:
- У любимого дома –
- бамбук и сосна.
- Это значит –
- у нас Новый год.
- Нам все это знакомо,
- как и снег у окна.
- Но глаза мои плачут,
- зато сердце поет.
- Ах, никак не пойму,
- как возникла беда
- в этом слове моем –
- никому,
- никогда…
– Если это новогодняя песня, то почему такая грустная?
– Наверное, потому, что грустная я! Близится год Тора, в котором я снова буду несчастна, делая несчастными других. Зато как счастлив будет мальчик, если он родится под знаком Тора – тигра… Ты ни о чем не догадался, голубчик?
– Прости. Нет.
– А разве ты виноват?
Она распахнула на себе кимоно и, обнажив живот, снова отбарабанила веселую музыку, как смышленый японский зверек тануки.
Ранней весной клипер «Наездник» ушел в Шанхай.
…