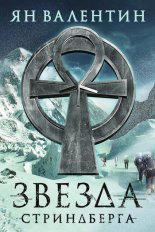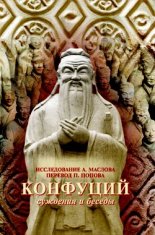Ной. Всемирный потоп Кантор Иосиф

За ужином рассказали о том, что услышал Ной ночью, женщинам, сначала взяв с них клятву молчания. Женщины не удивились и вообще повели себя достойно – не стали причитать и рвать на себе волосы в плаче. Посуровели лицами, переглянулись друг с другом, повздыхали немного (без этого женщинам никак нельзя) и более ничего. Ной хотел сказать нечто ободряющее, но решил приберечь ценные слова на потом, когда они будут нужнее. От частого употребления слова обесцениваются, теряют заключенную в них силу. И, если не от чистого сердца сказаны слова, нет в них силы. Слуги правителя заставляют народ кричать: «Слава Явалу! Да живет и правит он вечно!», но разве прибавится хоть на зернышко тилы блага от таких пожеланий, вырванных из глоток под угрозой палки или меча? Чтобы иметь силу, слова должны совпадать с мыслями, иначе нельзя.
Порадовало то, что Иафет к вечеру слегка посветлел взглядом, но огорчило, что хмурилась Эмзара. Еще до сообщения великой новости начала она хмуриться, а ведь утром, у распростертого на земле тела Ирада, была она скорбной, но не яростной. Сейчас же глаза так и посверкивали из-под насупленных бровей и ласковая улыбка мужа не могла превратить это сверкание в обычный благодатный свет. «Что за день такой?» – подумал Ной и перед сном долго молился, особо попросив милости Божьей для покойного Ирада, настоящего из сыновей добродетели.
– Как там соседка? – спросил Ной у Эмзары, ожидавшей его на ложе.
Эмзара никогда не засыпала без него, говорила, что без мужа сон к ней не приходит. То была не ревность, как могли подумать легко думы, а ответственность. Хранительница очага и покоя не вправе почивать, пока ее муж занят делами.
– Плачет. Успокаивается ненадолго и опять плачет. Я позвала ее к нам на эту ночь, но она отказалась. За весь день ничего не ела и не пила. Бедняжка немного не в себе, даже не могла вспомнить, куда Ирад прятал то, что ему удавалось сберечь. Я заплатила тем, кто его похоронил.
– Хорошо сделала, – одобрил Ной, ложась рядом с женой и накрываясь легким полотняным покрывалом. – Может, там и не было никаких сбережений. Люди почему-то стесняются признаваться в том, что у них ничего не отложено на черный день.
– Или не хотят лезть в потаенные места на глазах у других.
– Возможно и так. Если Хоар будет пытаться вернуть тебе деньги, не бери их. От нас не убудет, а ей даже малая толика пригодится во вдовьем положении.
– От нас не убудет, – согласилась Эмзара, но тон, которым были сказаны эти слова, не понравился Ною.
– Что такое? – спросил он, приподнимаясь на локте. – Что случилось, жена? Чем ты недовольна? Что тебя расстроило? И не знаешь ли ты, что стряслось с Иафетом, он сегодня сам на себя не похож?
Только выпусти на волю вопросы и им не будет конца.
– Иафета что-то беспокоит, но что именно он не говорит. Шева тоже не знает, я ее спрашивала. Но причина моего недовольства в другом.
Эмзара умолкла, словно раздумывая о том, стоит ли продолжать дальше.
– В чем же? – поторопил ее Ной, которому после бессонной ночи и тяжелого, многотрудного и многодумного дня, сильно хотелось спать.
– В том, что люди говорят: «Ирад умер, и теперь его соседу не надо лазить через плетень к Хоар, можно проходить в ворота».
– Кто говорит такое?
Языки у людей стали, что змеиные жала. На одно доброе слово приходится столько дурных, что, считая, непременно собьешься со счета. Но всему есть мера, установленный предел. Или уже нет никаких пределов, если даже Всевышний, не надеется на возврат людей к добру и решил извести их?
«Нет! – сверкнула молнией мысль. – Пока еще надеется! Иначе бы сам сотворил ковчег и послал бы его нам! Строительство ковчега это не только испытание достойных, но и предупреждение недостойным! Смотрите, думайте, кайтесь, спасайте свои души! В ком еще тлеет искра добра – поймет. Но ведь сказано: «Я вижу, что из всех ныне живущих ты один праведен предо Мною». Один? И так уж ли праведен? Ох, как трудно скудным умом своим постигать Высшую правду!».
– Хотя бы Ноама, жена старосты…
– Сех – глаза и уши Явала, а Ноама – язык его! – отмахнулся Ной, снова ложась на спину. – Нашла кого слушать, жена! Сех с Ноамой еще не то наговорят на меня, желая подольститься к правителю. Разве ты вчера родилась, что не понимаешь таких вещей?
– Родилась я не вчера, – проворчала Эмзара, – но почему ей тогда поддакивали другие? А толстуха Ребада хихикала и говорила, что горе одного приносит благо другому! Может, было так, что ты дал повод для подобных разговоров?
– Мне обидно слышать от тебя такие слова, Эмзара. Разве хоть раз я давал тебе повод усомниться в моей любви? Хочешь, принеси хлеб, и я поклянусь на нем, что никогда не ложился с Хоар, не входил к ней и даже никогда не вожделел ее. И, тем более, никогда не лазил через плетень! Видишь, как легко добились своего злые языки? Несколько лживых фраз, несколько коварных улыбок, и мы с тобой уже ссоримся! Разве так можно?
– При закрытых дверях и окнах сквозняков не бывает, – проворчала Эмзара. – Я вот тоже заметила, с каким участием ты сегодня утром смотрел на Хоар…
– Разве участие и вожделение есть одно и то же?! – возмутился Ной, поворачивая голову к жене. – Как я могу смотреть на только что овдовевшую соседку без участия? Ты сейчас несправедлива, жена! Верить надо тому, кто достоин доверия! Если завтра кто-то скажет мне, что покойный Ирад лазил к тебе через плетень, когда меня не было дома, то я рассмеюсь в ответ и ни за что не стану принимать эту чушь к сведению.
– Может, имели в виду Хама? – начала рассуждать вслух Эмзара. – Но тогда бы сказали «сын соседа», а не «сосед»…
Других соседей у покойного Ирада не было, сразу за его домом располагались сады, а дальше начинались поля.
– Разве у Хама что-то было с Хоар? – спросил Ной и тут же поправился. – Разве что-то могло быть?
– Не знаю, – после недолгого молчания ответила Эмзара. – Сыновья выросли, и я уже не могу понять, что у них на уме.
– Да, сыновья выросли, – согласился Ной. – Давай спать.
Он лежал неподвижно и ровно дышал, но сон уже не спешил взять его в свой сладкий плен. Хам мог что-то иметь с Хоар? Если мог, то это плохо вдвойне, нет – втройне. Как прелюбодеяние с замужней женщиной, как злоупотребление доверием доброго соседа и как связь с женщиной, муж которой был убит.
А ведь Хама ни ночью, ни утром не было дома… Он, конечно, не мог убить… При всех своих недостатках, Хам добр, сердце у него не ожесточившееся настолько, чтобы убивать… Или это просто так кажется, ведь известно, что родительская любовь порой делает людей слепыми, не способными замечать очевидное, находящееся прямо перед их глазами… И не стоит забывать о похоти, которая, если ее не обуздывать, способна затмевать разум и заставлять человека творить то, чего бы он в здравом уме никогда бы не натворил…
Мало было на сердце тяжести, так добавилось еще. Ной горько улыбнулся тому, как скоро может меняться ход мыслей человеческих. Еще за ужином он, глядя на Хама, испытывал грусть от того, что сын не таков, каким бы его хотелось видеть отцу. А сейчас, будь Ной уверен, что Хам непричастен к убийству Ирада, он бы радовался и не придавал бы такого значения недостаткам сына. Это же, в сущности, небольшие недостатки, которые со временем непременно выправятся и перейдут в достоинства, тому есть много примеров. Это не убийство ближнего, не великий грех…
Проницательности и терпения просил Ной у Господа до вторых петухов, а потом вернулся из своей молельни на ложе и заснул, еще не успев смежить веки.
Глава 4
Боль Эмзары
Если в одном месте прибавится, то в другом убавится. Это называется – справедливость. Та самая справедливость, на которой помешан мой муж. Каждое утро я благодарю Бога за то, что он послал мне такого хорошего мужа и каждый вечер я засыпаю с благодарностью на устах моих, но в течение дня случается мне пожелать, чтобы муж мой Ной, сын Ламеха, меньше бы думал о других и больше бы думал о своих. Повитуха Седа только и знает, что повторять, увидев меня: «Ах, Эмзара, сестра моя! Как отрадно знать мне, что ты жена праведнейшего из людей и достойнейшего из достойных!». А что мне с той праведности? Когда радость, а когда и слезы.
Муж мой добр, и это хорошо. Его доброта как крона дерева, дающая тень в палящий зной.
Муж мой добр, и в том есть свои недостатки. У другого отца сыновья не отбиваются от рук. Другой отец загодя ставит вымачиваться прутья и, когда придет час, берет их и воспитывает свое чадо, если то не внимает словесным увещеваниям. Вдруг Хаму было бы достаточно одной хорошей порки для того, чтобы войти в ум? Хам такой – чует слабину нутром. Доброту он принимает за слабость и начинает пользоваться ею без меры и без пользы. Старшего брата он боится и почитает, как должно, потому что тот не гнушается воздать ему по заслугам, а к отцу не проявляет должного почтения. Господи, сколь чудны и непостижимы дела твои! Разве может быть так, чтобы одна утроба от одного же семени породила трех столь разных людей, как сыновья мои Сим, Хам и Иафет? Обликом они немного схожи, как и положено единоутробным братьям, и более не схожи ничем.
Сим – муж силы, скала, за которой можно укрыться от любого урагана. Кому-то он может показаться тугодумом, но это не так. Сим привык сначала думать, а уже потом делать или говорить, потому он делает не сразу или говорит не сразу. Но, если уж сказал, то сказал, сделал – так сделал. Таков он, Сим, первенец.
Хам в одних делах мужчина, а в других – сущий ребенок. Любовными похождениями он уже затмил многих искушенных сластолюбцев, браги дурманящей он может выпить столько, что на двоих достанет, если не на троих, а во всем остальном он ребенок. Нет в нем ответственности, не хочет он знать долга своего, не говоря уже о том, чтобы исполнять этот долг. Как ни говори с ним, какие слова не подбирай, до сердца его не достучаться. Если собрать все слезы, которые я пролила из-за Хама, то наберется на целое озеро… Я не столько боюсь, что Хам сделает что-то слишком дурного, сколько боюсь, что кто-то сделает дурное ему. Сборища, на которых чаша переходит из рук в руки, очень часто заканчиваются ссорой, а у любой охочей до блуда женщины, не один любовник, а несколько, и они вступают в соперничество друг с другом. Не собранный вовремя урожай сгнивает, не обретя семью в положенные сроки, человек тоже портится – сначала жизнь ему кажется сплошным удовольствием и он прикладывается к чаше на радостях, потом он начинает подмечать, что жизнь его не наполнена смыслом, что она – сосуд пустой, и начинает прикладываться к чаше с горя, а потом… Ох, достаточно посмотреть на тех несчастных, что побираются по дорогам. Все написано на их лицах, надо только вглядеться. Я не раз заводила с Хамом разговор о женитьбе, ставила в пример братьев, и, даже, советовала ему обратить внимание кое на кого, но все тщетно. Но я своего добьюсь, да и Хам должен понимать, что сейчас ему надо взяться за ум, потом будет поздно.
Я надеялась, что он возьмется за ум, когда Иафет завел разговор о женитьбе. Всякий плод созревает в свое время, но не очень-то хорошо, если младший брат женится раньше старшего. То не младшему укор, а старшему. Значит, что-то со старшим не так, если он не смог до сих пор найти себе пару. Но Хам только смеялся и желал Иафету хорошей жены и многочисленного потомства. Так и женился Иафет вперед Хама.
Иафет – отрада моя. Недаром говорят, что младший ребенок – самый любимый. Так оно и есть, хоть я и не стараюсь показывать этого, чтобы двум другим не было обидно. Я люблю всех моих детей, но от вида Иафета или голоса его, мое сердце радуется сильнее обычного. Или огорчается сильнее обычного, когда я замечаю печаль на челе его, вот как сейчас. Спрашивать Иафета бесполезно, он никогда не сказал и не скажет мне ничего такого, что может меня расстроить. Поэтому я спросила невестку Шеву, но та ответила, что не знает причины. Сказала, что спрашивала, но Иафет не признается. Шева еще молода, срок ее замужества невелик, и она еще не научилась понимать мужа без слов. Ничего, все приходит с опытом. Иафет не признается, но я думаю, что все дело в грядущем потопе. Я понимаю, как тяжело ему принять мысль о грядущей гибели мира. Ему тяжело, мне тяжело, всем нам тяжело, но тяжелее всего мужу моему, ибо он в ответе за нас перед Богом.
Муж сильно изменился. Я почувствовала это сразу, как только он, придя в себя, открыл глаза. Взгляд его стал другим, прозревающим, спрашивающим, испытующим… Я тоже стала другой – проснулась наутро и подумала о том, что правильно Господь не торопится награждать меня внуками. Зачем младенцам присутствовать при гибели мира? Пусть лучше они родятся потом, когда все страшное останется позади. Пусть они станут детьми нового мира, мира, в котором не будет места порокам и дурному. А ведь еще три дня назад я советовалась со сведущими женщинами относительно трав, дающих мужчинам крепкое семя, а женщинам плодовитость. Как же так – пора бы уже четверых внуков иметь, если считать по обычному счету, а у меня ни одного еще нет! В каждой своей молитве я просила у Господа прибавления в семействе моем, а теперь впору просить о обратном… А вообще-то, когда случится, тогда пусть и случится. Как бы то ни было, что бы кругом ни происходило, а рождение ребенка всегда должно приветствовать.
Ковчег! Триста локтей в длину! Пятьдесят в ширину! А в высоту – тридцать! Какой огромный ковчег! Хотела бы я знать, сколько локтей в длину и ширину насчитывает дворец правителя Явала! Думаю, что дворец меньше ковчега, хоть и не обходила его с мерным локтем. И не тридцати локтей в высоту дворец, от силы в десять. Сможем ли мы построить такую громаду? Достанет ли нам сил? Муж верит, что сможем, значит, и я должна верить. Я верю – а как же иначе, но сомнение время от времени начинает глодать меня изнутри. Может быть потом, когда ковчег будет построен хотя бы на четверть, сомнения пройдут, но сейчас, пока я не вижу ничего, кроме разложенных на земле досок и копошащихся возле них людей, я сомневаюсь… Муж улыбается в ответ на мои тревожные вопросы, и эта улыбка успокаивает меня. Но улыбается он не всегда, когда думает, что я не вижу, может хмуриться в раздумьях. А вчера он повысил голос на Шеву, которой вздумалось пожелать после потопа жить там, где земля не нуждается в поливе и возделывании, а родит сама. Шева простодушна и не всегда отличает глупое от умного. Муж посоветовал ей желать спасения и ничего более, а еще сказал, что из всех земель мира ни одна не создана для лодырей, ибо всякая земля дает благо в обмен на заботу о ней и добавил, что если бы Богу было бы угодно, чтобы люди проводили свои лета в праздности, то спелые плоды и свежеиспеченные лепешки падали бы прямо с неба. Случилось у меня однажды такое, когда я носила Хама. Коршун унес курицу гончара Авии и почему-то захотел выпустить ее из когтей, когда пролетал над нашим двором. Я несла в дом высохшую после стирки одежду, когда мне под ноги упала окровавленная курица. От испуга я чуть было не родила раньше положенного срока и несколько ночей не могла заснуть до тех пор, пока муж не клал мою голову себе на колени. Я спала, а он сидел и охранял мой сон. Уж не эта ли курица, точнее – мой испуг, стал причиной тому, что Хам таков, как он есть? У всего сущего свое предназначение, но зачем существуют коршуны? Кому от них польза? Муж говорил мне, что хищники полезны тем, что они поедают слабых и больных животных, но я так и не смогла уяснить себе этой пользы, особенно, если дело касается домашней живности. Если бы еще коршун унес курицу старосты Сеха или торговца Элона, то это можно было бы истолковать как кару за их жадность и злосердечие. Но лишать курицы бедного гончара, который, несмотря на свою бедность, всегда продает нуждающимся свой товар со скидкой? Чем он провинился?
Муж говорит, что пути Всевышнего непостижимы и то, что кажется нам странным, на самом деле имеет причину, только мы ее не понимаем. «Сверху виднее», – говорит он, и с этим не поспоришь – сверху действительно виднее. Когда я была ребенком, я любила взобраться на какую-нибудь высоту и смотреть оттуда на мир. Сверху все кажется таким маленьким, немного ненастоящим, но видно далеко…
Сана с Шевой перебирают шерсть и развлекают себя разговором. Иногда Шева принимается напевать что-то себе под нос. Голос у нее приятный, я люблю слушать ее пение. Но сегодня мне не до пения и разговоров, руки мои работают, а в голове роятся думы. Что будет с нами? Каково это – быть единственными людьми на свете? Ни одного соседа, никого-никого, только мы, наша семья… Хотя, может, это и к лучшему, ведь сейчас мы тоже живем замкнуто, общаясь с людьми только по необходимости. Люди перестали отличать добро от зла, лучше держаться от них подальше. Сердца их ожесточились, переполнились завистью и злобой. Сетуют на тяжелую жизнь и говорят себе в оправдание: «Какова жизнь, таковы и мы». Но разве от злобы жизнь станет легче? А муж мой – как заноза в глазу у всех. Мы никому не делаем зла, но нас ненавидят. Я чувствую эту ненависть в косых взглядах, нехороших прищурах и в притворных улыбках тоже чувствую. Ощущая собственную мерзость легко успокаиваться тем, что ты таков, как все, и нет никого лучше тебя. Но муж мой как напоминание о том, каким должен быть человек. Он – ходячий укор им, и за это его ненавидят. И нас тоже ненавидят. Так лучше уж быть нам одним, так хоть не придется опасаться погибнуть от руки убийцы на собственном поле, как погиб сосед наш Ирад. Хороший был человек, наперечет сейчас такие люди, мало их. Несчастный Ирад.
Так долго тянул с женитьбой, все мечтал выбиться из нужды, а потом уж жениться, чтобы семья его не знала недостатка в чем-либо, а когда собрался взять жену, то не смог выбрать достойную себя. Повелся на красоту и притворную скромность, но не разглядел за этим притворством истинной сущности своей избранницы. Хоар своенравна и похотлива до невозможности, она из тех неукротимых кобылиц, которые нуждаются в твердой руке. Ирад любил Хоар, можно сказать – души в ней не чаял, но он не смог утолить жажду ее лона, как не смог утвердить над ней свою власть. Смотрел на одно, а видел другое. Говорил с восхищением: «Как блюдет чистоту своего тела моя Хоар! Не ляжет со мной, не вымывшись с головы до ног!». А о том, в чем кроется причина такой любви к мытью, простодушный Ирад не задумывался. Хоар же смывала с себя запахи других мужчин, навещавших ее, пока Ирад трудился в поле или в саду. Надо отдать Хоар должное – пристойность она соблюдала, никого из любовников не впускала в ворота, не улыбалась им на людях и не делала ничего, что могло бы навлечь на нее подозрения в неверности. Но, живя по соседству, многое замечаешь. Слух у меня хороший, да и на зрение я не жалуюсь. Ирад ушел в поле, Хоар понесла в птичник зерно. Вдруг в доме раздается стук – «тук-тук» и спустя два биения сердца еще раз «тук-тук». Хоар тут же выходит из птичника и спешит в дом. И выходит очень не скоро, раскрасневшись и с печатью удовлетворения на лице. Я сама женщина и знаю, как выглядит женщина, только что досыта утолившая любовную жажду. Как кошка, объевшаяся сметаны.
Кто стучал в доме, если Ирад в поле, сама она была в птичнике, а детей у них нет? Кто-то, кто перелез в укромном месте через плетень и проник в дом украдкой, через одно из окон. Украдкой проник и украдкой ушел.
У Хоар с Хамом было то, что бывает между мужем и женой. Я своими глазами видела, как Хам жадно поедал ее глазами, думая, что этого никто не замечает. А Хоар, подметая двор, нарочно вставала так, чтобы явить взору Хама все свои сокровенные прелести. И подол платья у нее задрался, якобы случайно, и стан она изгибала как танцовщица, и нагибалась чаще, чем надо, да еще и крупом своим поигрывала призывно. Я не виню Хоар, она не виновата, что такой родилась. Похоть сродни жажде в жаркий день. Подобно тому, как, томясь жаждой, невозможно думать ни о чем, кроме воды, так и, томясь похотью, невозможно думать больше ни о чем, кроме крепкого срамного уда. Другое дело, что, имея такое свойство, нельзя становиться женой добропорядочного человека, ибо гулящая жена навлекает позор сразу на двоих – на себя и на своего мужа.
Я очень боюсь за Хама. Подумала я – кто же убил Ирада, как не какой-то ревнивец из числа любовников Хоар? Не пожелал больше делить ее с мужем и убил. Чаще обманутые мужья отыгрываются на любовниках, но случается и обратное. И еще подумала я – а вдруг тот ревнивец не остановится на муже и начнет убивать всех своих соперников, всех, кого Хоар дарила своей благосклонностью? Сын мой Хам тоже ведь в их числе. Я пыталась поговорить с Хамом, предостеречь его, но он, по вечному своему обыкновению, посмеялся и заверил меня, что с ним ничего дурного случиться не может. Хотела бы я знать, откуда взялась такая уверенность, на что она опирается? Сдается мне, что это обычная мужская самонадеянность, дочь легкомыслия. После Хама я говорила наедине с Иафетом, попросила его вразумить брата. Я надеялась, что слово из уст брата дойдет до Хама лучше, но Иафет, выслушав меня, сказал, чтобы я не беспокоилась, что Хаму не грозит смерть от руки убийцы Ирада. Я стала спрашивать, почему он так думает, но Иафет сослался на свое чувство. «Я так чувствую», – сказал он. Не знаю, что он на самом деле чувствует, но мое беспокойство от такого ответа не уменьшилось, а возросло.
А Хоар, оказывается, любила Ирада. На свой лад, но любила. Во всяком случае, оплакивала она его искренне. Легко отличить притворный плач от непритворного, истинную скорбь от ложной. У того, кто скорбит на самом деле, лицо чернеет. Притворством такого не добиться. Как теперь Хоар будет жить одна? Поля она отдала в пользование Хагему-испольщику, а для ухода за садом наняла работника, какого-то пришлого, никому не известного парня. Женщины говорят, что лучше было бы нанять кого-то из своих, чем доверять чужому, но я подозреваю, что этот чужой парень для Хоар совсем не чужой и платить за работу она ему может не только из нового урожая, но и своим телом.
Новый урожай… Будет ли он? Придет ли для него время?
И не этот ли чужак убил Ирада, чтобы входить к его жене в любое время по своему желанию? Ни за что не поверю в то, что одинокая вдова, которую некому защитить, осмелится допустить в дом незнакомца, у которого разное может быть на уме. Особенно сейчас, когда украсть не стыдно, совершить насилие не страшно и убить легко.
Глава 5
Отец и сын
Хотелось говорить с людьми. Хотелось выйти к ним, развести руки в стороны, словно желая заключить всех в объятья, и воскликнуть: «Братья и сестры! Подумайте о спасении своем, пока еще есть время подумать! Изменитесь, и изменится ваш удел! Отвратите свои сердца от зла и обратитесь к добру! Времени осталось мало, очень мало!».
Но звучали внутри слова: «Все, кто живет на земле, погибнут. Но с тобою будет у Меня договор, что Я беру тебя под свое покровительство. Ты войдешь в ковчег – с сыновьями, женой и женами сыновей…»
Ты войдешь в Ковчег! С сыновьями, женой и женами сыновей!
«Разве того, кто близок мне помыслами, нельзя считать моим сыном? – думал Ной, толкуя услышанное. – Разве нет никого, кроме нас, кто достоин спасения?»
Это была одна мысль, что не давала покоя. Другая, беспокоившая не меньше, была о Хаме. Чем больше думал Ной о смерти своего соседа Ирада, тем больше подозревал, что сын его Хам мог быть причастен к ней.
«Хам – убийца?! – негодовало сердце. – Нет! Нет! Не может такого быть! Как можно заподозрить в убийстве Хама, сына своего, которого когда-то держал на руках и качал на коленях?».
«Разве Хам не предавался блуду с Хоар? – возражал разум. – Разве не было его дома в ту ночь и в то утро? Разве не странно, что, услышав весть о смерти Ирада, он не выказал ни удивления, ни сожаления? Нельзя сказать, что Хам сделал это черное дело, но и нельзя сказать, что он непричастен к нему. Может быть так, а может быть и иначе».
Но – если причастен?! Это же означает, что в Ковчег войдет убийца! Можно ли допустить такое? Бог насылает на землю потоп, чтобы избавить ее от зла, а зло будет в Ковчеге? Зачем же тогда все это? И спасутся ли те, кто войдет в Ковчег с убийцей? И каково это – жить и знать, что сын твой отнял чужую жизнь? Как можно призывать людей к добру, если сам, пусть и не ведая того, породил зло?
Ной просил Бога вразумить его.
Ной просил послать ему знак, чтобы убедился он в виновности Хама, сына своего, или же отринул все сомнения.
Ной просил открыть ему имя убийцы. Если Богу будет угодно, то пусть появится в воздухе перст и начертит огнем имя. Если Хам убил, то он не войдет в Ковчег! Не будет ему там места!
Закончив работу, которой было невпроворот, Ной наскоро ужинал в кругу семьи, избегая встречаться взглядом с кем-либо, чтобы никто не мог догадаться о том, что за мысли у него на уме, а затем спешил в свою молельню и просил, просил, просил… Что еще оставалось делать, как не просить? Убийца Ирада не спешил открыться, и никто не искал его, чтобы наказать. Страшно сказать такое, но убийство ближнего своего уже входило если не в обычай, то в число обыденных событий. Если раньше, давно, споры было принято разрешать полюбовно, миром, то теперь – дракой или убийством. Мертвый враг не опасен, разве не так? Кто убил, тот доказал свою силу, а, значит, и свою правоту, разве не так?
Дни проходили в трудах, а ночи – в молитвах. Ной почти не спал, и знавшая о том Эмзара удивлялась, откуда он берет силы, если толком не отдыхает и толком не ест. Наконец, Ной понял, что Бог послал ему еще одно испытание, которое может оказаться труднее, чем строительство Ковчега.
Бог испытывает его веру в детей своих. Если вера эта крепка, то не будет никаких сомнений. Если человек уверен, что сын его не способен на убийство, то и подозревать его не станет. Так же, как не станет подозревать себя самого.
Если уверен…
Бог испытывает его мудрость. Если человеку достает ума и проницательности для того, чтобы разобраться в тайном, что скрыто ото всех, то ему достанет этих качеств и для того, чтобы правильно устроить жизнь на очищенной от порока земле и установить справедливые законы, которым будут следовать его потомки.
Если достает…
Если же кто не уверен ни в детях своих, которые должны войти с ним в Ковчег Спасения, ни в том, что он достаточно мудр для того, чтобы не дать злу возродиться после потопа, то как он может быть избранным?
Бог испытывает, значит, так надо. Испытание – удел достойных, ибо, с честью проходя его, они умножают свое достоинство. Испытание надо пройти. Там, где недостает разума, подкрепить его верой, там, где недостает веры, подкрепить ее разумом. Если есть сомнения в непричастности Хама к убийству Ирада, иначе говоря – если Хам подозревается в убийстве соседа, то следует разобраться в том, кто убил. И тогда уже решать чего стыдиться – то ли того, что посмел так плохо думать о сыне своем, то ли того, что вырастил убийцу.
Тут было над чем подумать. Никогда еще Ною не приходилось выяснять чью-то вину. Он спросил – ему ответили, так было заведено дома. Никто не скрывал содеянного, да и нечего было скрывать. Никогда в жизни не приходилось Ною выводить кого-то из членов семьи на чистую воду, уличая во лжи. Прочих иногда приходилось, но то были простые дела при простых обстоятельствах – мелкая ложь, обычные наветы завистливых сплетников. Однажды по следам на влажной от дождя земле Ной нашел сорванцов, повадившихся лазить в его сад. Добро бы только ели, но от озорства, присущего молодости, когда кровь бродит в жилах, то и дело ударяя в голову, мальчишки наносили вред – обрывали ветви, срывали больше плодов, чем могли съесть, бросали их наземь и топтали ногами. Озорники оказались совестливыми, увещевания вкупе с приглашением приходить поесть плодов открыто оказалось достаточно для того, чтобы набеги на сад прекратились раз и навсегда.
Но где мальчишки, залезшие ночью за дарами земли, и где убийца! Хладнокровный, коварный убийца, что подошел к человеку, работавшему на поле своем, и ударил его ножом в спину. И убийца этот был знаком Ираду, знаком настолько, что можно было безбоязненно повернуться к нему спиной.
Ной представил, как навстречу Ираду идет человек. Вот он подходит, произносит обычное приветствие для трудящихся «Благословенны будут труды твои» или просто говорит: «Мир тебе, Ирад». Ирад выпрямляется, отвечает на приветствие, они разговаривают, затем прощаются. Человек делает вид, что идет дальше, а Ирад снова берется за мотыгу, но не успевает взмахнуть ей, как падает на землю с ножом в спине. Человек озирается, желая узнать, не наблюдает ли кто за ним, и в этот миг Ною удается разглядеть знакомые черты…
Нет, это не Хам! Это не может быть Хам! Убийца смеется и машет рукой перед лицом своим. Теперь Ной узнает в нем себя самого.
– Отец, что с тобой?! – услышал Ной встревоженный голос Сима.
– Все хорошо, сын, – ответил Ной.
Сим не удовлетворился ответом. Решив, что отцу напекло голову солнцем или что он просто переутомился, Сим отвел его в тень навеса, под которым хранились материалы и инструмент, усадил на тюк с пенькой, помахал на отца мешком из-под гвоздей, поскольку другого опахала под руками не было и сбегал к роднику за водой. Несмотря на свою грузную стать, Сим был очень легок на ногу. Ной не успел перевести дух, а сын уже стоял рядом с чашей холодной воды в руках.
Воды было много. Ной утолил жажду, затем предложил напиться Симу, но тот покачал головой и сказал, что напился у родника (когда только успел?). Тогда Ной вылил остатки воды на голову, чтобы освежиться, и попросил Сима прислать к нему Хама. Сим ушел, а Ной стал наблюдать за работавшими, заодно и сосчитал их. Просто так, чтобы знать.
Кроме самого Ноя и троих сыновей его на постройке Ковчега сегодня работало семь нанятых поденщиков и пятеро помогавших добровольно. Тем, кто работал по собственному почину, тоже полагалась плата, но, в отличие от поденщиков, они могли начинать работу, когда им хотелось и заканчивать тоже по своему желанию. Добровольные помощники руководствовались не столько желанием помочь в строительстве, сколько любопытством. Они приходили, когда хотели, и уходили, когда им вздумается. Некоторые не столько помогали, сколько мешали, то и дело приставая с расспросами.
– Мы строим Ковчег! – отвечали любопытным Ной, Сим, Хам и Иафет. – Зачем нам Ковчег? Зачем мы строим его? Строим, потому что должны строить!
Ной непременно добавлял от себя несколько фраз про спасение от порока, распространившегося по миру, не увязывая это напрямую с Ковчегом. На большее он не считал себя вправе, но и молчать тоже не мог. Кому предначертано – тот поймет. Кому суждено спастись – тот догадается. Чье сердце обратится к добру – тот будет спасен. Если бы кто-то из обратившихся к добру, попросил бы у Ноя места в Ковчеге и был бы искренен, то Ной, не сходя с места, назвал бы его сыном своим и пригласил бы в Ковчег, когда тот будет построен. Так решил Ной, ибо невозможно спасаться самим, зная, что среди дурных людей гибнут раскаявшиеся, вставшие на путь добра.
«Все добрые люди – сыновья мне», – говорил себе Ной, и то была уловка, но уловка из числа бесхитростных, прямодушных.
Приходящие на луг, да и все остальные, не спешили обращаться к добру. Кто-то интересовался платой, кто-то подносил материалы, кто-то любопытствовал в меру или сверх нее, кто-то смеялся, но никто не сказал: «Добро поселилось в сердце моем», и никто не сказал «Хочу спастись».
Ной смотрел вокруг и улыбался. Шум, производимый строителями ковчега, был сладчайшей музыкой для его ушей. Тут стучат топорами, подгоняя доски друг к другу, там обухом забивают гвозди, чуть поодаль отпиливают лишнее… Работа кипит, хорошо. И как приятно пахнет деревом. Воистину ни одно дерево не источает столь чудесный аромат, как гофер. В аромате этом зной солнца смешался с прохладой воды, впитав в себя прелесть сочных трав и красоту ночного неба. Нагреваясь к полудню под палящими лучами солнца, гофер начинал пахнуть сильнее и на поверхности досок и бревен проступали мельчайшие капельки смолы, сверкавшие, словно драгоценные камни. Ладони строителей Ковчега были в смоле и благоухали.
Хам, радующийся любому поводу для отдыха, появился скоро. Подошел к отцу тяжелой походкой уставшего от работы человека, присел на край досок, уложенных друг на друга, и сказал, улыбаясь:
– Хороший сегодня день, отец. Работа так и спорится.
Видно было, что он лукавит и на самом деле хочет сказать, что работать от восхода солнца до его захода и даже сверх того, это слишком и что полуденный отдых может быть дольше. Но Ной не подал виду, что догадался. Сейчас ему важно было не наставлять и не поучать, а узнать правду.
– Радуется сердце мое, когда подходит ко мне мой сын, – сказал Ной, глядя на Хама. – И то, как работают мои сыновья, нравится мне. Любой отец гордится, когда его дети творят благо. Но если вдруг кому-то из них доведется сделать нечто дурное, то все равно в сердце моем…
– Могу поклясться, отец, что уже целую седмицу не совершал я ничего такого, за что меня можно было укорить! – перебил Хам.
Перебивать отца, да и вообще перебивать непочтительно, но Ной предпочел не обращать на это внимания, а порадовался тому, что Хам не стал отмалчиваться, а вступил в разговор. Когда собеседник молчит – это плохо, разговора не получится.
– Хвалю тебя, сын! – пряча улыбку в бороде, ответил Ной. – А почему всего лишь седмицу?
«И почему ты говоришь именно про эту седмицу?» на самом деле хотел спросить он. Ирада убили шесть дней тому назад. Простое ли совпадение или Хам намеренно хочет отвести от себя подозрение в убийстве.
– Я не совершаю ничего важного и потому не запоминаю своих дел надолго, – нашелся с ответом Хам. – Что делал недавно помню, а что было давно – позабыл. «Чем короче память, тем крепче сон», – говорит знахарь Этан.
– А когда ты спишь, сын? – удивился Ной, ухватившись за сказанное. – Днями ты работаешь, ночами гуляешь. Остается ли у тебя время на сон? Или ты раздобыл у того же Этана снадобье, позволяющее обходиться без сна долгое время? Тогда мой долг предостеречь тебя – от частого его употребления можно сойти с ума. Бог создал ночь для сна, а день для работы.
– Есть ли у меня деньги для того, чтобы покупать снадобья Этана? – Хам пожал плечами и покачал головой, словно давая понять, что снадобья-то он бы купил, но другие.
Этан славился своими настойками, многократно усиливающими мужскую силу. Даже из столицы приезжали к нему покупатели. А еще Этан собирал черную накипь, что растет на старых, начавших гнить, пнях и делал из нее напиток, один глоток которого уносил отведавшего в сказочное небытие, где исполнялись все желания. От напитка этого слабели члены и туманился разум, но, тем не менее, пристрастившиеся продолжали пить его ежедневно, ибо не могли уже обойтись без него.
– Тебе ли, сын, в твои цветущие лета, думать о снадобьях! – мягко укорил Ной. – Но ты так и не ответил на мой вопрос.
– А что там отвечать? – проворчал Хам. – Сплю я урывками, где придется. То засыпаю в чьих-то объятьях, то немного сплю по возвращении домой, пока вы просыпаетесь и творите молитвы, то удается прикорнуть в тени после обеда. Прости, отец, но я не могу постичь суть твоего интереса. Стоит ли тебе, обремененному заботами, думать о том, где и сколько я сплю. Позволь мне самому заботиться о себе, ведь я уже взрослый.
– Конечно, взрослый, – поспешил согласиться Ной, досадуя на то, что разговор пошел не так, как ему хотелось.
Такие люди, как Хам, словно сухое дерево – вспыхивают от одной искры, от одного слова. Трудно с ними, но нужно спросить, нужно узнать.
– Я все время думаю о том, кто убил нашего соседа, – сказал Ной, внимательно наблюдая за выражением глаз Хама. – Сосед – что родственник, и хотелось бы, чтобы убийца был наказан. Нет ли у тебя, сын, каких-то соображений относительно того, кто это мог быть?
Хам ни бровью не повел, ни лицом не дернул, но взгляд его изменился, посуровел, стал жестче.
– Откуда мне знать, ведь меня там не было? – ответил он вопросом на вопрос.
Что еще можно спросить после подобного ответа?
– Может, люди что-нибудь говорили? – продолжил расспросы Ной. – Слухи иной раз бывают правдивыми.
– Говорили, – неожиданно кивнул Хам. – Говорили, что никто не знает, где и когда суждено ему встретить смерть.
– А еще что говорили люди? – спросил Ной, введенный в заблуждение миролюбивым тоном Хама и не чувствуя уготовленной ему ловушки.
– А еще говорили, что лучше встретить смерть за столом, с чашей в руках или в жарких объятьях красавицы, но не в поле! – рассмеялся Хам. – Тяжко умирать, когда последнее, что ты видишь – земля на твоей мотыге!
– Мне не доводилось еще умирать, и я не могу судить о том, тяжко это или легко, – строго и твердо сказал Ной, – но я уверен, что лучше лишний раз взять в руки мотыгу, нежели чашу. Жизнь – это труд, а не праздность. И мне очень неприятно слышать подобные высказывания по поводу смерти Ирада, сын мой.
– Так ты же сам спросил, о чем говорят люди, – напомнил Хам. – Ты спросил – я ответил.
Притвориться простаком – излюбленная уловка Хама. Только против брата Сима не срабатывает она.
– А не говорил ли кто о том, что держит зло на Ирада?
– Половина из знакомых мне мужчин держали на него зло! – воскликнул Хам. – Как можно не держать зла на беззубого скупердяя, который поспешил схватить сочный плод, но не в силах съесть его?
– Ты говоришь о нашем покойном соседе! – нахмурился Ной. – О добром соседе и его несчастной вдове! Имей же уважение!
– Отец! – вспылил Хам, повышая голос. – Я отвечаю на твои вопросы, говорю, что знаю, слышу в ответ укоры и не могу понять, чем я их заслужил! Что обидного в том, что Ирада я сравнил с беззубым скупердяем, а его жену Хоар – с сочным плодом? Разве она не есть сочный плод, глядя на который испытываешь желание, надкусить его? И разве наш добрый сосед не был тем, кто брал, будучи не в силах пользоваться? Молодой страстной женщине нужен муж, способный укротить ее нрав и насытить ее страсть, а не вялый ленивец, способный лишь на прикосновения!
– Хам, прекрати! – потребовал Ной, уже раскаиваясь в том, что вообще затеял этот разговор.
– Позволь, отец, мне договорить, раз уж я начал, – попросил Хам, умеряя свой обличительный пыл и говоря тише. – Взять хотя бы плотника Тапана. У него спокойный нрав, и он не слишком-то охоч до утех плоти. Но он взял себе жену, отвечающую его нраву – такую же спокойную и лишенную всяческого пыла, и живет хорошо. А вот медник Савтех…
– Подумай, о чем ты говоришь! – ужаснулся Ной. – Если послушать тебя, то получается, что Ирад сам виноват в том, что жена изменяла ему? Виной тому не ее блудливый характер, а спокойный нрав Ирада? А ты не думаешь о том, что бедняга так уставал, добывая пропитание для себя и своей жены, что у него не всегда доставало сил на утехи? Если так пойдет дальше, то ты договоришься до того, что сделаешь Ирада виновным в собственной смерти!
В разговоре отца и сына возникла пауза, во время которой оба сверкали глазами и хмурились. Шум, производимый топорами и пилами, заглушал их голоса, иначе бы Сим давно бы прибежал выяснять, что произошло. Хорошо, что не прибежал, не хватало тут только Сима с его вечными затрещинами Хаму. Лучше бы прибежал Иафет, но тот уже который день был хмур и неразговорчив. Который? Шесть дней уже был не таков, как обычно Иафет, и никто не знал, что стало тому причиной – Иафет не признавался, когда его спрашивали и сам ни с кем не делился тем, что лежало у него на душе. Но лежало, лежало что-то, и было оно весомым, давило. Шева, видя, что муж постоянно не в духе, утратила свою обычную веселость и осунулась. Бедняжка, должно быть, она считала себя виноватой в том, хотя невозможно было представить, что Шева может огорчить или как-то иначе испортить настроение.
– Может статься и так! – дерзко ответил Хам. – Просто так не возьмешь и не убьешь! Для убийства нужна причина, и причина из веских! Если бы Ирад не сотворил какого-то зла и не перешел бы кому-то дороги, то кому и зачем понадобилось его убивать?! Ирад был убит не в многолюдной драке, как иногда случается и не в темноте, когда можно подумать, что убийца ошибся! Нет! Он был убит на своем поле, при свете дня, и тот, кто убил, хотел убить именно его! Ты говоришь «добрый Ирад»! А ко всем ли он был добр?!
С каждой фразой голос Хама становился все громче и громче.
Ной не нашел, что ответить, да и не хотелось отвечать. Ясно было, что разговора не получилось, так зачем же продолжать? Гнев и запальчивость не располагают к беседе.
– В том, что женщина изменяет мужу своему, есть и его вина! – выкрикнул Хам, вскочив на ноги. – Любое убийство имеет в основе своей две причины – деяния убитого и намерение убийцы!
Сказав это, он развернулся и ушел, не дожидаясь ответа. Ной остался сидеть там, где сидел, и пытался обуздать свой гнев. Хам зарвался! Как смеет он говорить отцу такое, да еще повышать голос? Как смеет он, будучи младшим, первым заканчивать разговор?
Ною потребовалось сколько-то времени для того, чтобы успокоиться. Справиться с гневом удалось относительно легко, но вот сомнения в отношении Хама окрепли и это было хуже всего. Человек, оправдывающий убийство, человек, разделяющий ответственность между убийцей и его жертвой, вполне мог оказаться убийцей. Горячность, с которой Хам говорил о Хоар, тоже настораживала и заставляла задуматься. Ну, а если сложить все вместе, то получалось…
– Не мог он… – прошептал Ной, чувствуя, как на глаза его наворачиваются слезы. – Не мог он убить… Мой сын не убийца… Мой сын…
Очень хотелось в это верить. Но не всегда получается верить в то, во что хочется верить. Как ни старайся, как себя не убеждай.
Худшее из состояний, когда сердце говорит одно, а разум – другое. «Нет мира в душе», – говорят про такое, а как же жить, когда в душе нет мира?
Глава 6
Обида Хама
«Любое умение идет человеку на пользу», – любит повторять мой отец. Он гордится тем, что знает много ремесел – от плотницкого до сапожного. И еще он гордится тем, что совершенно не умеет лгать. А ведь это очень ценное умение, и пользы от него человеку больше, чем от всех ремесел, вместе взятых. Ложь, сказанная к месту, может избавить от несчастья или же принести прибыль. Так нет же! Мой отец праведник, а праведники никогда не лгут. Только не надо думать, что праведники всегда говорят правду! Они или говорят правду, или отмалчиваются. Порой это молчание может довести до беды. Все умные люди кричат славословия, приветствуя правителя Явала, а мой отец стоит в первых рядах и молчит. Разве после такого можно надеяться на какое-нибудь благо от правителя или его людей? И ради чего вести себя так? Чтобы люди сказали: «Вот Ной, который не славословит правителя нашего?». Какой в том прок? Люди чаще говорят другое: «Вот гордец, который ставит себя выше правителя! Он подпоясывается простой веревкой, но он не так уж и прост!». Говорят и смеются. Веревка, которой подпоясывается мой отец, давно уже стала притчей во языцех. У самого последнего бедняка есть хоть какой-то, хоть плохонький, но пояс, и только отец мой перепоясывает чресла свои простой веревкой! «Зачем мне пояс, – говорит он, – если и веревка сгодится?» Он думает, что, выделяясь подобным образом, приобретает отличие, но на самом деле, он роняет не только свое достоинство, но и наше семейное. «Вот сын перепоясанного веревкой!» – говорят про меня, и больно мне слышать такое. Я не могу сказать подобно тому, как говорит отец: «Кто хочет – видит человека, кто хочет – видит веревку», потому что в этих словах нет смысла. Любой, кто смотрит на отца, видит и человека, и веревку, иначе и быть не может! Однажды мы с братьями подарили отцу пояс, достойный почтенного человека, так что же? Он взял, поблагодарил, пошел купил еще два таких же и дал нам со словами: «Пусть это будет вам от меня». А сам остался при своей веревке!
Торговцы Атшар или Элон не скупятся ни на славословия правителю, ни на подарки ему и его людям, оттого и живут в богатстве, не утруждая себя низкой тяжелой работой. В поле Атшар выходит лишь для того, чтобы отдать распоряжения работникам, а Элон, должно быть, не знает, с какого конца берутся за мотыгу. Они – счастливые люди, умеющие добиться блага для себя.
Люди правителя не раз намекали отцу, что ему следует обуздать свою гордыню, но в ответ на ласковые увещевания отец отвечал дерзостью, не задумываясь о том, что терпение правителя может иссякнуть.
Спроси кого: «Знаешь ли ты Ноя, сына Ламеха?» и тебе ответят: «Это тот гордец, что возомнил себя выше всех и смущает народ непонятными речами». А другие скажут иначе: «Это тот безумный, что строит ковчег посреди суши». Я думал, что люди будут приставать ко мне с вопросами по поводу ковчега, но люди не ждут от отца ничего разумного и ничего не спрашивают. Они сочли строительство ковчега очередным чудачеством Ноя и смеются. Савтех-медник каждый день придумывает новое назначение этой постройке, одно гнуснее другого. Мне пришлось сделать ему внушение, чтобы он немного придержал свой язык. Дальний родственник Савтеха – один из приближенных Явала, не то писец, не то хлебодар. Савтех грозил мне неприятностями, ссылаясь на свое знатное родство, пришлось добавить ему пару тумаков. Как бы ни относился я к отцу моему, глумиться над ним в моем присутствии я не позволю. Он – мой отец, и другого у меня нет, хотя, если бы сыновья могли бы сами выбирать себе отцов, я бы, наверное, выбрал другого – поумнее и такого, чтобы поменьше вмешивался бы в мои дела. Я уже взрослый и волен сам решать, что мне делать.
«Взрослый мужчина – семейный мужчина», – твердит отец. О, мой отец упрям, как никто. Скала может сдвинуться с места, если содрогнется земля, но мой отец никогда не уступит ни в чем. На первый взгляд кажется, что он добр и снисходителен, потому что он никогда не распускает рук, как братец Сим, не бранится и даже кулаком по столу не стучит. Но другой отец выругается в гневе да и уступит сыну, а мой будет долго увещевать с улыбкой на устах, но со своего не сойдет.
«Разве для того, чтобы получить свободу, нужно надеть на шею ярмо?» – спрашиваю я. Почему я не могу жить так, как мне хочется, будучи холостым и свободным? Неужели, жена моя, войдя в наш дом, прибавит мне разума? Зачем родители докучают мне с женитьбой? Отец говорит прямо, а мать действует намеками – то и дело заводит при мне речь о разных девушках, нахваливая их красоту, скромность, усердие в работе и прочие достоинства. Сейчас у нее на примете Гишара, дочь покойного гончара Арега. Не спорю, Гишара красива и возбуждает страсть, но если лицом она похожа на цветущую розу, то сердце у нее каменное. На все мои ласковые слова и похвалы у нее один ответ – отвернет голову в сторону и пройдет мимо. Я при этом чувствую себя униженным, можно же хотя бы улыбкой поблагодарить меня за внимание, не говоря о том, чтобы дать мне какой-то знак. Я же не посягаю на то, от чего убудет! Мужчина создан для утех с женщиной, женщина создана для утех с мужчиной, и кто установил так, что нельзя войти к женщине прежде, чем возьмешь ее в жены? Наверное, это был какой-то слабосильный старик, желавший удержать возле себя молодую красавицу, будучи не в силах удовлетворить ее страсть. Вот он и придумал, что жена только для мужа и что запретны мужчине все женщины, кроме жены. Сам не могу, но зато и другому не дам. Так жадный Элон запрещает своим работникам подбирать упавшие с веток плоды и есть их – пусть лучше сгниет добро, чем попользуется им кто-то чужой. Так и мужья поступают с женами – пусть те сохнут себе от страстного томления, но никому другому не достанутся их ласки, кроме мужа. Кроме мужа! Как будто сосед наш Ирад мог утолить хотя бы десятую часть страсти жены своей Хоар! Если бы не я и другие добрые люди, Хоар давно бы сошла с ума, ведь любовь мужа была для нее каплей в море. Должно быть так – мужчина и женщина по обоюдному согласию могут творить все, что им вздумается для своего удовольствия, и никто не вправе мешать им. Жизнь дана человеку для наслаждения, а не для работы, что бы там ни думал мой отец. А захочется кому-то жить вместе и заводить детей, так пусть живут. Это будет справедливо и без обмана, потому что такое решение будет от чистого сердца и по доброй воле. Ведь если руководствоваться запретами, то женщина может думать, что мужчина берет ее в жены лишь для того, чтобы каждую ночь без помех возделывать ее поле. И вообще, чем больше свободы и чем меньше запретов да правил, тем лучше жизнь. Птицы летают в небе куда хотят, отчего же человек не может делать что хочет? «Вот настали времена, когда каждый делает, что он хочет, – и разве это к добру?» – говорит мне отец. Я отвечаю на это, что каждый должен решать сам за себя и чей-то пример мне не указ. Я могу сказать другие слова: «Каждый делает что хочет, разве хорошо в такое время надевать на меня ярмо?». Но бесполезны эти споры, поскольку последнее слово всегда за отцом. Я сказал так – если когда-то у меня будут дети, я не стану неволить их и принуждать к тому, что им не по душе. Когда они вырастут, я скажу им: «Дети мои, живите как вам угодно и будьте счастливы». Вот что скажу я своим детям и услышу в ответ, что я – лучший из отцов.
Иногда я думаю, что отец и братья завидуют мне. Завидуют тому, что я умею находить радость и наслаждение в жизни, завидуют моей свободе, завидуют моему характеру. Я не вол, что, уставившись в землю и обливаясь потом, тянет свою ношу изо дня в день. Я – орел, что летает выше других птиц и летает туда, куда хочет. Угораздило же меня родиться среди волов! Друзьям моим родители ни в чем не перечат, один я ежедневно слышу попреки.
Мало было досад мне, а теперь еще этот Ковчег. Я не думаю, что отец мой взялся строить его по своему почину, потому что отец не может лгать, и если уж говорит что-то, то, значит, так оно и было. И браги дурманящей он пьет столько, чтобы слышать и видеть то, чего нет. Но терзают меня сомнения – уж не вздумалось ли какому шутнику устроить такую проделку над праведным Ноем? Что стоит тихо залезть на крышу, устроиться над родительской спальней, проделать маленькое отверстие в потолке и, увидев, что отец мой начал молиться, говорить с ним от имени Бога? Такие шутники, как Ерах, сын мельника Ирада, или Шалаф, сын Атшара-богача, вполне способны на такую проделку. У Ераха, изощренного в коварстве, достанет терпения молчать о своей проделке до тех пор, пока Ковчег не будет достроен. Шалаф – тот проще, он проболтается скорее. А может, кто-то из шутников сделал такое, будучи сильно пьяным, и наутро, протрезвев, забыл о содеянном? А мы строим этот Ковчег, отдавая все силы.
Я сказал отцу: «Если Бог хочет для нас спасения, то почему не указал нам высокую гору, взобравшись на которую мы могли бы переждать потоп? Ведь легче взойти на гору, пусть даже и высокую, пусть даже и с грузом на плечах, нежели строить эту громаду? Сил на постройку Ковчега уходит немерено, и траты на покупку дерева для него велики». Я говорил разумно, но отец оборвал меня и завел обычные свои речи о том, что благо дается человеку в трудах и что чем больше это благо, тем больше для его обретения надлежит трудиться. А еще говорят некоторые, что мой отец мудр. Какая же это мудрость – выучить одно и твердить это всю жизнь? Мудр староста Сех, у которого для каждого случая, для каждого человека, есть особое правило. «То, что хорошо в урожайный год, плохо для неурожайного года, – говорит Сех, – то, что правильно для богатого, не годится для бедного». И он говорит верно, потому и живет хорошо. Разве может быть одна и та же правда у льва и ягненка, у правителя Явала и нищего, что просит подаяния на дороге?
Одно утешает меня – как бы не пошло дело, наши труды не пропадут. Я говорил с Узалом-корчмарем. Он сказал, что знает людей, которые могли бы купить то, что мы построим. Для чего им это надо, Узал не сообщил, но это и не важно, важно то, что если вся эта затея с Ковчегом есть плод чьей-то шутки, мы не останемся внакладе или останемся не сильно. Узал не шутил, а говорил серьезно и, даже, прельщал меня обещаниями поделиться со мной той платой, что получит он за посредничество, если я смогу уговорить отца сильно не дорожиться при продаже. Для чего может понадобиться такая огромная постройка? Уж не сам ли правитель Явал положил на нее глаз? Нет, правитель не стал бы заводить речь о покупке, он бы прислал воинов и забрал силой. Разве есть смысл тратиться на приобретение того, что можно взять так? Нет, это кто-то пониже правителя, кто-то из его вельмож или богатых столичных торговцев. Может, им требуется большое хранилище для разных товаров, а может – место увеселения, стоящее в стороне от людских глаз. Ковчег в три яруса хочет построить отец, на первом ярусе можно устроить несколько харчевен и корчм, а два верхних отвести под помещения для любовных утех. Да мало ли какое применение можно придумать большой и добротной постройке. Под надзором отца строим мы добротно, на совесть. Брат Сим не просто вобьет гвоздь, но и рукой непременно попробует – крепко ли тот сидит на своем месте, а брат Иафет в конце каждого дня обходит и смотрит все, что было сделано, выискивая огрехи. Думаю, что отец тоже проверяет работу нашу, но делает это не на виду у всех, как Иафет, а тайно, не желая никого этим обидеть. На работе и дома мы только и говорим, что о Ковчеге. Мне даже сниться начал этот Ковчег, не таким, как сейчас, а уже готовым к отплытию. Будто хочу я войти в него, а отец стоит на пути моем и размышляет – впустить меня или нет.
Только сейчас я понимаю, как славно и спокойно жили мы до начала строительства Ковчега. Правильно говорят – не утратив, не оценишь по достоинству. Работать приходилось меньше, о женитьбе моей отец и мать заговаривали не столь часто, и сердце мое было свободно от стеснения. Мать укоряет меня, что я стал предаваться развлечениям больше прежнего и перестал ночевать дома. Где же я могу отдохнуть и почувствовать себя счастливым, как не в объятьях охочей до ласк красавицы и с чашей в руках? Жизнь дается человеку один раз, и с каждым днем срок ее становится все меньше. Неужели мы должны отказывать себе в удовольствиях? Вот сосед наш Ирад провел в трудах свою жизнь и встретил смерть свою за работой – что хорошего было в его жизни? Не жаль ему было умирать, не вкусив от жизни полной мерой? Что это была за жизнь, если он так уставал от трудов своих к концу дня, что на жену ему сил не хватало. Лучше бы занялся торговлей или пошел бы на службу к правителю, чем пахать землю. Только такие простаки, как мой отец и мои братья, считают труд землепашца почетным. Что там почетного – пот да слезы! Когда работаешь, потеешь, когда считаешь прибыль, впору плакать! Наша семья живет справно, но у нас четверо работников, а если считать отца и брата Сима по заслугам, то все шестеро, потому что они успевают вдвое против нас с Иафетом. А если уж сравнивать с другими людьми, так можно сказать, что работаем мы за десятерых, а не за шестерых. Потому-то и живем так. Если же выходить на поле одному, как выходил сосед наш Ирад, то многого не наработаешь. На пропитание и чтобы было чем наготу прикрыть хватит, а лишнего сада не купишь и нового дома не построишь. Тому, кто хочет быть богатым, надо или служить правителю, или заниматься торговлей, или давать деньги в рост, а лучше всего, совмещать эти три занятия, подобно тому, как делает это Элон. Все знают, что он торгует зерном и дает деньги нуждающимся в них, причем дает под большой процент и никогда не даст без залога. Но не все знают, что Элон – тайный соглядатай правителя, глаза и уши Явала. Правитель Я вал мудр, он не даст власть старосте, не поставив того, кто бы смотрел за ним. Я про тайные дела Элона узнал от его сыновей, когда они, напившись браги, стали похваляться тем, что отец их вхож к самому правителю и регулярно докладывает правителю о том, что происходит у нас. Наутро они хмурились и говорили, что спьяну напридумывали разной чепухи, но глаза у них при этом были испуганные. Все знают, как суров правитель наш к тем, кто выбалтывает его тайны. Болтунам отрезают языки, часто – вместе с головами, вот такое им наказание. Думаю, что не один Элон – соглядатай, такой хитроумный человек, как правитель Явал, должен понимать, что чем больше глаз и ушей, тем лучше. Если один попробует солгать, другие выведут его на чистую воду. Если бы в моих правилах было бы выбалтывать чужие тайны, я бы тоже подался бы в соглядатаи, ибо это занятие весьма приятно – ходи себе между людей, да все подмечай – и хорошо оплачивается. Но все знают, что Хам – как могила, что услышал он или увидел, то умрет вместе с ним.