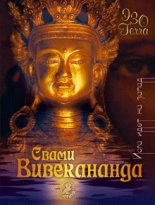Княжна-цыганка Туманова Анастасия

Тетка Варя нахмурилась. Взгляд ее стал удивленным.
– Отчего ж не было? Ты что – с ума сошла, про свою сестру такое думать?! Как это не было?! Да разве б я тебе тогда сказала, что Дина замуж вышла?!
Нина схватилась за голову. В который раз за сегодняшнюю ночь ей показалось, что она вот-вот лишится рассудка.
– Но… как же… А… А что же не как положено-то было?!
– Тут, девочка, дело такое… – Тетя Варя отвернулась. – Сенька-то ее силой взял. Не по согласию.
– Ка-а-ак?!
– Вот так. Наши на другой день просто глазам своим не верили. Ночью оба пропали – и Сенька, и Дина. Наутро вдвоем явились, Динка вся избитая, растрепанная, зареванная… но рубашку с «розочкой» в руках, как флаг, держит! Сенька с ней. Перед всеми сказал: так уж, ромалэ, вышло, Динка мне жена теперь. Ой, что началось!.. Мать ваша ему чуть глаза не выцарапала! Дед едва не проклял!
– Отчего ж… не проклял? – одними губами спросила Нина.
– Не знаю. Оттого, наверное, что внук все-таки. И Динка – внучка… Они ж двоюродные, Сенька-то с Динкой…
– И «роза» была?! – забывшись, переспросила Нина.
Тетя Варя, рассердившись, взмахнула руками.
– Да говорят тебе, дура, что была! Вот такая, чуть не с колесо! Во всю рубашку! Бабы ее чуть не обнюхивали! Настоящая, ни одна не засумлевалась! Честной твою сестру взяли, хоть и не по-хорошему! А… ты отчего спрашиваешь?
– Ничего… Я – ничего! – спохватилась Нина. – Вот право слово, просто так…
– Ага. И разбудила меня посреди ночи с бешеными глазами тоже просто так, – спокойно заметила тетя Варя. – Что ты знаешь, девочка?
– Ничего… Да что ты, бибинько, что я знать могу… Я же в Питере пропадала… – забормотала Нина, хорошо понимая, как глупо звучат ее слова. – Я клянусь, просто так…
– Ну, просто так – значит, просто так. – Тетя Варя смотрела через Нинино плечо в черное окно. – Только я тебе еще вот что скажу. То, что Динка – честная, весь табор знает. Про нее никто слова худого не скажет. Другое говорят.
– Что же?
– Говорят, не Сенькино дело было, вот что. – И, предупреждая испуганный вопрос Нины, тетя Варя взмахнула рукой. – И не спрашивай меня, ради бога, ни о чем! Сама ничего не знаю! И дед ваш не знает! И бабка! И мать ваша! Молчит Динка, молчит Сенька! Молчат, проклятые! Живут вместе – и молчат! А Дарья мне еще говорила, что…
Тетка Варя запнулась на полуслове, закусив губы. Нина в упор смотрела на нее, но старуха-цыганка молчала. Нина закрыла лицо руками. Глухо попросила:
– Тетя Варя, ради бога, расскажи. Детьми своими клянусь – от меня никто слова не услышит. Дина же мне сестра, я умру, а ей плохого не сделаю. Но мне, мне самой надо знать, не то я с ума сойду. Скажи, что мама тебе говорила?
Некоторое время тетя Варя, похоже, колебалась. Затем, перекрестившись на Богородицу в углу, медленно, словно через силу, выговорила:
– Дарья мне сказала, что Сенька к Дине как к жене не вошел ни разу. Спят врозь. Как брат с сестрой. Покрывал он ее, вот что. Грех чужой покрывал.
– Кто… боже мой, кто про это знает?.. – пролепетала чуть живая Нина.
Тетя Варя посмотрела на нее с досадой:
– Да ты что, девочка, с перепугу совсем ума лишилась? Никто не знает! Я с тебя и слово потому взяла!
– Но… но… но я тогда совсем ничего не понимаю… – простонала Нина. – Что же это такое, господи…
Тетя Варя пожала плечами. Помолчав, спросила:
– Ты-то мне ничего не расскажешь, девочка?
Нина молча закрыла глаза. Когда она решилась их открыть, старой цыганки уже не было рядом. Гроза уходила, гром вяло перекатывался за Бутырской заставой, последняя вспышка молнии тускло, словно устало, осветила еще лежащие на скатерти письма.
– Диночка… – прошептала Нина, обхватывая плечи руками. – Диночка моя бедная, что же с тобой было? Что с тобой случилось? Что с тобой сделали, родная моя…
В июле 1920 года в Ялте нечем было дышать. Сверкающее море, слегка размытое на горизонте золотистой дымкой облаков, лежало под раскаленным добела солнцем неподвижно, словно зеркальное. Пронзительно кричали в горячем воздухе чайки; на рейде курсировали черными точками корабли. Вдоль берега бесстрашно болтались контрабандистские фелюги, скользили рыбачьи шаланды. По вечерам на набережной играл военный оркестр; на сиреневых от вечерних теней бульварах кружились пары, слышался женский смех, звон гитар. Работали рестораны, кафешантаны, кабаре, публичные дома; стояли открытыми стеклянные двери кондитерских. Изредка с гор приносило маленькие серые тучки, гремящие над городом короткой грозой. Но дождь быстро заканчивался, мгновенно высыхала листва каштанов и магнолий, город встряхивался – и снова жил спокойной, беспечной летней жизнью, в которой только и было, казалось, заботы – как избавить себя от зноя. Совсем рядом, на Кубани, возле Дона, гремели бои. Добровольческая армия отступала шаг за шагом, уже миновала страшная, тяжелая, бестолковая эвакуация из Новороссийска, уже прошел восторг после первых врангелевских побед. Но здесь, в этом золотом, солнечном, голубом раю с прозрачными ливнями, ласковым морем и теплыми, долгими, пахнущими миртом вечерами, казалось все это так далеко, так нереально… Заполнившие город солдаты выглядели беспечными; офицеры квартировали в богатых домах Ялты, отчаянно флиртовали с барышнями, танцевали на балах. Каждый день справлялись свадьбы, каждый день от церквей разъезжались нарядные пролетки, а иногда даже автомобили со счастливыми новобрачными. Еще ни в одном сезоне в Ялте не игралось столько свадеб: и невестам и женихам, несмотря на всю безмятежность летней природы, на отдаленность боев, было ясно, что нужно торопиться.
Одна из коротких июльских гроз только что отгремела над набережной, разогнав прохожих и оставив на мостовой обширные лужи, высыхающие прямо на глазах. В посвежевшем воздухе парило; сильнее запахло отцветающей магнолией и розами. Короткий дождик еще брызгал, золотясь крохотными искорками в лучах выглянувшего солнца. По чистому перламутру неба бежали, словно торопясь вдогонку за уплывающей тучей, несколько веселых лохматых облачков. За ними, стоя прямо под дождем и запрокинув голову, наблюдал молодой человек, почти мальчик, в форме пехотного поручика, невысокий, загорелый, с рукой на перевязи. На его болезненном лице застыла задумчивая улыбка; казалось, он не замечал бегущих по лицу капель.
– Вересов, вы с ума сошли? – окликнули его из-под навеса, и поручик, вздрогнув, обернулся с виноватой улыбкой.
– Что вам, Сокольский?
– Мне – ничего, а вот вы положительно рехнулись! – сварливо повторил брюнет с сумрачным, некрасивым лицом, которое портил еще больше длинный шрам наискось. – Сестрички в госпитале измучились с вашей чахоткой, только-только все начало налаживаться, а вы, изволите видеть, вышли пастись под дождем! Экая пастораль! Сегодня же, ей-богу, нажалуюсь доктору!
– Не губите… – с грустной улыбкой отмахнулся Вересов, возвращаясь под навес веранды и садясь за стол рядом с товарищами. – Иван Эдуардович – натура грозная, ему бы кавалерией командовать, а не госпитальными барышнями… И потом – какой это, с вашего позволения, дождь? Знаете ли, после кубанских дорог в марте месяце… это просто горячий душ! Помните?
– Мне ли не помнить… – криво усмехнулся Сокольский.
Вересов снова выглянул из-под навеса, посмотрел на убегающую за горизонт вереницу облачков. Вздохнув, продекламировал:
- Тучки небесные, вечные странники!
- Степью лазурною, цепью жемчужною
- Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
- С милого севера в сторону южную.
Кто же вас гонит: судьбы ли решение? Зависть ли тайная? злоба ль открытая? Или на вас тяготит преступление? Или друзей клевета ядовитая?..
– Господи, Миша, вы еще помните какие-то стихи?.. – без улыбки удивился Сокольский.
Вересов вздохнул:
– Последнюю строфу, вот жалость, забыл… Вам не кажется, что это о нас?
– Мне многое кажется. Только не вижу смысла рассуждать об этом, – отрезал Сокольский. Его зеленоватые, холодные глаза потемнели. – Мне эти тучки-цветочки и контрдансы на набережной по вечерам уже осточертели! Я на следующей неделе возвращаюсь в полк… и пошло все к чертовой матери!
Он нервным движением нашарил в кармане портсигар, неловко открыл его, выронил – и папиросы рассыпались по дощатому полу веранды. Сокольский выругался коротким, грязным словом, резко отвернулся. Сидящий рядом невысокий офицер лет сорока пяти с погонами полковника, с сильной сединой в волосах неодобрительно взглянул на него, но промолчал.
Вересов растерянно посмотрел на товарища. Тихо спросил:
– Что вы вздумали, Сокольский, голубчик? Как это возможно – в полк? После вашего-то ранения? Вас до сих пор боли мучают, третьего дня рана открывалась… Иван Эдуардович ни за что не позволит…
– Стало быть, придется обойтись без его дозволения, – резко ответил, не оборачиваясь, Сокольский. – И, видит бог, там само собой все пройдет. Мне Замайло земли с керосином замесит, перекрестит, намажет – и всех дел… Под Яссами только этим и спасались… Я не могу здесь дышать, поручик, поймите! От этой морской стихии, будь она проклята, меня уже тошнит! Там, в степи, по крайней мере, что-то происходит. В конце концов мы все подохнем, этого, видно, не избежать, но… но там все случится в бою и, надеюсь, без долгих проволочек. Я, к своему великому сожалению, еще верую в Бога. И не горю желанием пускать себе пулю в голову.
– Сережа, прекратите это немедленно, – отрывисто сказал, по-прежнему глядя в море, седой полковник. Нагнувшись, он поднял полупустой портсигар Сокольского и бросил его на скатерть. – В армии и так довольно психопатов, не хватало еще, чтобы лучшие офицеры Дроздовской дивизии поддавались бабьей истерике! А все эта ваша серебряная пыль… Вы не имеете права так распускаться! И тем более – в присутствии мальчика семнадцати лет, который и без того…
– Иван Георгиевич!!! – возмутился Вересов, и упомянутые семнадцать лет немедленно проявились во всей полноте на его вспыхнувшем, как заря, детском лице. – Я, кажется, никогда не давал повода!..
Темная краска прихлынула на миг к острым скулам Сокольского. Зеленые сумрачные глаза коротко и недобро сверкнули из-под бровей, но он сразу же взял себя в руки. Опустив голову, глухо произнес:
– Простите меня, господин полковник. Вы правы.
– Поймите же, Сережа, что… – почти ласково начал полковник, повернувшись к Сокольскому. Но закончить ему не дал басистый рык хозяина кондитерской, пузатого татарина:
– А ну пошла прочь, нечистай сила! Иди своей дорогам, здесь тебе брать нечего! Вот поналезли, шайтан, и не выгнать никак! Не видишь, дурной башка, – здесь балшие господа отдыхают!
– А ты, миленький, у господ и спроси – хотят они, чтоб я ушла, или нет? – звонко и ничуть не испуганно ответствовал девичий голос. Все три офицера изумленно обернулись – и увидели входящую под навес кондитерской цыганку.
Ей было не больше двадцати лет. С загорелого дочерна горбоносого лица блестели темные, живые, как у веселого зверька, глаза. В губах, словно папироса, торчала длинная соломинка. Босые ноги девушки были в пыли, возле большого пальца темнела ссадина, о которой, похоже, цыганка и не вспоминала. Во всяком случае, веранду она пересекла легкой упругой походкой, не обращая внимания на заинтересованные взгляды немногочисленных посетителей, и остановилась прямо около стола офицеров, непринужденно опершись грязной исцарапанной ладошкой о белую скатерть. У тротуара столпилось еще несколько оборванных черноглазых девчонок, которые, посмеиваясь, с интересом наблюдали за подружкой.
– Ах вы, мои солдатики дорогие… – Глаза цыганки метнулись по лицам офицеров, задержались на повязке Вересова, на забинтованной голове Сокольского. – Ах вы, мои несчастные… Как же вас эта война проклятая измучила – вижу, вижу… А позволь, я тебе, золотенький, погадаю! Одну только правду говорить буду, истинный крест!
Вересов, к которому обратилась цыганка, неуверенно улыбнулся и оглянулся на товарищей. Полковник пожал плечами; Сокольский усмехнулся.
– Попробуйте, Миша… Они иногда весьма забавно врут.
– Я никогда не вру, господин штабс-капитан, – обиженно заявила цыганка – и тут же поправилась: – Ах мне, господи, да что же я, глупая, и впрямь сбрехала! Это ведь уж и не штабс-капитан, а целый ротмистр передо мной сидит и моему египетскому гаданию верить не желает!
– Какому-какому гаданию?..
– И чин новый неделю назад тебе дали от большого белого генерала! Только ты этому, брильянтовый, вовсе не рад.
– Вот как, отчего же? – впившись в нее болезненно блестящими глазами, поинтересовался Сокольский.
– Оттого, что жизнь твоя почернела и белой уж не будет. Но вот что я скажу, ротмистр мой яхонтовый…
– Э, нет, позвольте! Погодите, Сокольский! И ты, красавица, подожди! – взвился молоденький Вересов так, что молчавший полковник усмехнулся в усы. – Ты ведь мне первому предложила свои услуги! Я тоже хочу знать, что меня ждет!
– А ручку позолотить, разбрильянтовый?
– Сама ты разбрильянтовая! – рассмеялся Вересов, весело глядя в смуглую, чумазую, лукавую мордашку пророчицы. – Как тебя зовут?
– Меришка.
– Ну, вот, если хочешь, тебе плата. – Небрежным жестом он протянул цыганке монету, которая тут же исчезла в складках рваной юбки. – Так расскажи, что меня ждет? Скоро я женюсь, Меришка?
– Жениться тебе, ненаглядный мой, рано, – мягко ответила цыганка, и Вересов растерянно осекся, встретившись с ее внимательными, сразу посерьезневшими глазами. – Тебе не жениться, тебе к матери, домой хочется. Ты из дома мальчиком ушел, не успел даже казенное заведение окончить. Ушел потому, что хотел белому царю служить, свою страну спасать. Долгая твоя дорога была, долгая и опасная, много в ней было крови, много смерти. В тебя стреляли, и ты стрелял. Тебя убивали, и ты убивал. Но я тебе вот как скажу: кончилась твоя война, и страшнее, чем у тебя полгода назад было, на большой-большой реке, уж не будет. Никогда в жизни. Матери своей ты больше не увидишь, врать не стану, но она жива и здорова и каждый день за тебя молится. В доме твоем сейчас чужие люди живут, и тебе туда возврата не будет. Ждет тебя скорая дорога, любовь крепкая и долгая жизнь.
– Так… мама жива? – растерянно спросил ее Вересов. – Где она сейчас?
– Мишель, девчонка же морочит вам голову, это ее ремесло! – с сердцем проговорил Сокольский. – Неужели вы не понимаете?
– Друг мой, ей-богу, вы – идиот, – холодно, по-прежнему смотря в сторону, заметил ему полковник.
Поручик молча переводил взгляд с одного на другого.
– Ты их не слушай, меня слушай! – снова вклинилась цыганка, непринужденно прихватывая двумя грязными пальцами пирожное с тарелки Вересова. – Клянусь душой своей, все с твоей матерью хорошо! Она уехать успела и в спокойном месте живет, я так вижу!
– А… скажи еще мне вот что! – заспешил Вересов, торопливо подвигая цыганке всю коробку пирожных. – Скажи, милая, я еще встречусь с братом? Мы расстались с ним при сдаче Новороссийска, и с тех пор…
– Жив и здоров, в госпитале, в Констанце! – единым духом, хоть и несколько невнятно из-за набитого пирожным рта, отрапортовала цыганка. – И вот что я тебе еще поведаю, нагнись-ка…
Вересов и цыганка сблизились головами и начали шептаться.
– Миша, у нее же могут быть вши, а мы с вами их только что насилу вывели! – морщась, заметил Сокольский, но прямо под нос ему решительно сунулся маленький коричневый кулак с блеснувшим на одном из пальцев перстнем, и ротмистр невольно отшатнулся. Растерянно оглянувшись, он заметил усмешку в сощуренных глазах полковника, пожал плечами, встал. Небрежно засвистев сквозь зубы, пошел к дверям, остановился там, опершись плечом о косяк, и с иронической улыбкой начал наблюдать за совещанием Вересова и цыганки. Слов Сокольский не слышал, но ему было видно, как освещается широкой улыбкой лицо товарища и как он внимательно, радостно, с детской доверчивостью слушает воодушевленный шепот гадалки. В конце концов та прыснула смехом и потерла большой палец об указательный. Вересов с готовностью полез в карман; к своему крайнему изумлению, не обнаружил там ничего и с мольбой обратился к Сокольскому:
– Ротмистр, ради бога, одолжите! Она хочет для нас сплясать, а мне нечем ей платить!
– Сколько же просит эта Матильда Кшесинская? – поинтересовался, не двигаясь с места, Сокольский. – Извольте, Миша, но…
– Оставьте, ротмистр, я плачу за это удовольствие, – смеясь одними глазами, произнес полковник и через стол передал цыганке ассигнацию. Та ловко спрятала ее в вырезе рваной кофты, быстро поклонилась и, едва выпрямившись, с ходу кинулась плясать. Крыльями взлетели вверх ладошки, всплеснул подол красной юбки, показав на миг до колен стройные, сильные, коричневые ноги, метнулись из стороны в сторону растрепанные косы. Девчонка ловко, на цыпочках, пошла по кругу. С тротуара донеслась нестройная песня и хлопки: юные цыганки как могли помогали подружке:
- Э Маляркица гэя вэшэса,
- Тэрноро чяворо – дроморэса…
Цыганка развернулась в пляске, и Сокольский невольно сделал шаг вперед навстречу этому загорелому, улыбающемуся лицу. Плясунья, поймав его взгляд, лукаво покачала головой, встряхнула ею, отчего косы девушки рассыпались на мелкие вьющиеся пряди. Отбросив с лица волосы, цыганка взмахнула руками, дрогнула плечами – одно из них, выпроставшись из порванного ворота кофты, так и осталось голым. Вересов даже приподнялся из-за стола. Цыганка небрежно вернула рукав на место, подбоченилась и пошла дробным подбивом по загудевшему полу, умудряясь при этом еще и припевать:
- Тэ нашас, тэ нашас, Маляркица!
- Др’ада темнинько э ратори!
– Браво, браво! – захлопал Вересов, когда лихая пляска кончилась, цыганки у тротуара весело завизжали и плясунья, тяжело дыша, но по-прежнему улыбаясь во весь рот, остановилась у стола. – Замечательно! А петь ты умеешь?
– Миленький, за деньги – хоть оперу тебе спою! – переводя дух, заверила цыганка.
– Вот как? – послышался за ее спиной голос Сокольского, и девушка, вздрогнув от неожиданности, обернулась. – Какую же?
– Да любую, – пожала она плечами – Не беспокойтесь, громко спою! Так слышно будет, что… Господин ротмистр, ЧТО ВЫ СЕБЕ ПОЗВОЛЯЕТЕ?!
Рука Сокольского, непринужденно улегшаяся на талию цыганки, была отброшена с такой силой и яростью, что ротмистр невольно отшатнулся. Он не испугался отпора, но мгновенно изменившийся тон девушки и ее возмущенное лицо заставили его нахмуриться.
– Что же ты обиделась, милая? У меня тоже есть деньги… Если хочешь, можем прямо сейчас взять извозчика и поехать в гостиницу.
– Да… Да как вы смеете?! – взвилась цыганка. – Подите прочь! И… и кто вам дал право говорить мне «ты»?!
– Что?.. – опешил Сокольский.
На веранде воцарилась тишина – такая, что стало слышным вялое журчание фонтанчика во внутреннем дворе. Девушка, испепелив Сокольского взглядом, резко отвернулась и пошла было к выходу, но ротмистр уже пришел в себя и крепко, с силой взял ее за плечо. Цыганка рванулась, но ротмистр держал крепко. В его зеленых, сощурившихся глазах заблестела сумасшедшинка.
– Нет уж, красавица, я тебя не выпущу!
– Ротмистр, прекратите это! – поднялся из-за столика полковник. – Я приказываю вам! Оставьте ее в покое!
Подружки плясуньи с гневными воплями ворвались в кондитерскую. Сокольский, не обращая на них внимания, с силой потянул на себя цыганку. Та, застонав от ярости, уперлась обеими руками в его грудь, извернулась… и ротмистр, взвыв от боли, схватился за плечо.
– Ч-чертова кукла… Укусила!
По серому рукаву расползлось пятно крови. Выругавшись, Сокольский бросился к цыганке, но мимо него метнулся пестрый вихрь: девушки стаей вылетели из кондитерской, подняв столб пыли у порога. Когда она улеглась, на улице уже никого не было. А когда разочарованный Вересов обернулся к столу, то увидел, что так же бесследно пропала едва начатая коробка с пирожными.
– Вот этого я вам не прощу никогда! – сердито сказал он ротмистру, который с проклятиями растирал плечо. – Вы спугнули мою Земфиру! Для чего вам понадобилось это свинство? Неужели мало проституток в Нижнем городе?
Сокольский тихо выругался, вернулся за стол, сел на свое место, взял портсигар, дожидавшийся его на краю скатерти, – и криво усмехнулся:
– Вот проклятые, когда же они и это успели?..
Портсигар оказался пуст. Одинокая, забытая папироса лежала под ним.
– Честное слово, это все она, Земфира! – с невероятной гордостью произнес Вересов. – Поглядите, и на полу тоже ни одной, а вы рассыпали больше дюжины! И напрасно вы на меня так смотрите, я и сам не заметил, как… Смотрите, она ведь и пирожные украла, всю коробку, господа, ей-богу!
– Не могу понять вашей радости, – сквозь зубы процедил Сокольский. – Обычная базарная воровка, по которой веревка плачет, только и всего.
Полковник протянул Сокольскому папиросу, дал огня и, дождавшись, пока тот затянется, вполголоса проговорил:
– Еще одна подобная выходка, ротмистр, – и вы отправитесь строевым маршем на гауптвахту. Вы утрачиваете человеческий облик. Я все понимаю, Сережа, ранение, нервы, усталость… но надо держать себя в руках, мой милый. Вам пора прекращать эти забавы с кокаином.
– Господин полковник, я не мальчик-кадет, – не поднимая глаз, ответил Сокольский. – Если вам угодно отправить меня на гауптвахту – извольте, я подчинюсь. Но в мои отношения с кокаином не вмешивайтесь, это касается только нас с ним.
– Сережа, голубчик, но я ведь неофициально!.. Вы губите себя, и…
– Оставьте, прошу вас, – отрезал Сокольский.
Полковник внимательно посмотрел на него и продолжать не стал. Глядя в открытую дверь на пыльную улицу, усмехнулся:
– Какие, однако, странные манеры у этой вашей… Земфиры. Ее, стало быть, возмутило ваше обращение на «ты»? Потряса-ающе, господа… Неужели даже цыгане уже нахватались этой красной отравы?
– Теперь она больше не придет сюда, – огорченно сказал Вересов. – А все из-за вас, Сокольский!
– Коль уж вы так воспылали, поищите ее в таборах, – мрачно посоветовал ротмистр. – Целыми табунами стоят за городом. Наверняка эта дикарка оттуда. Вот только зачем вам это все – убейте не пойму. Лучше пойдемте вечером в «Парадиз» слушать Надин Белую. Певица, красавица… и, в отличие от вашей бандитки, не кусается!
Вересов только вздохнул. Полковник молча глядел на сверкающую гладь моря. Сокольский смолил уцелевшую папиросу, время от времени, морщась, дотрагивался до пострадавшего плеча и чему-то хмуро, безрадостно улыбался.
– Взяла, взяла! Меришка райестыр пирожны чердя![12] – весело звенело над дорогой, уходящей от города в степь. Пыль еще клубилась в воздухе: лишь минуту назад стайка юных цыганок перешла со стремительного бега на шаг. Задыхаясь и хохоча, девушки висли на плечах друг у дружки, переводили дыхание и вытирали вспотевшие лбы.
– Взяла, взяла, взяла, взяла! – громче всех вопила, прыгая в облаках пыли, худая большеротая Брашка, и голый, грязный мальчишка у нее на руках подпрыгивал вместе с ней. – Я вам говорила! Я вам всем говорила! Я, я со всеми спорила! Симка, гони кораллы!
– И ведь как она умеет! – с завистью проворчала высокая глазастая сумрачная Симка, покосившись на Мери, идущую с коробкой в руках. – В таборе без году неделя, а вон как настропалилась! Господам гадает – а те с открытыми ртами сидят да слушают!
– Так она ж и сама из господ! Княжна целая! Вот и знает, что им говорить нужно! Как поп по книжке жарит! Нам, неученым, и рядом не скакать! – расхохоталась Брашка.
– А вы видели, видели, как она барина цапнула?! – давилась смехом, скаля большие зубы, черная, как сапог, Райка. – Я-то уж подхватилась отбивать ее, а она… «По какому праву «ты» мне говоришь?! Как смеешь?!» – и хвать зубами! Раз – коробку со стола! И – бегом!
– Как есть романы-чашка[13] немытая, а не княжна, – хмыкнула Брашка, на пятках разворачиваясь к мрачной Симке. – Эй, а ты глухой не прикидывайся, драгоценная моя! Гони кораллы, говорю, раз проспорила!
– Сейчас тебе! Уже ниточку рву, уже перекусываю, – огрызнулась через плечо та, на всякий случай прибавляя шагу. – Не было за кораллы разговору!
– Лопни моя душа, да как же это не было? Как не было, когда все слышали?! Чаялэ![14] Чаялэ, скажите, вру я или нет?! Да что же это такое?! Жадность тебя заела, дорогая моя, или совесть на базаре потеряла?!
– Ха, она про мою совесть вспомнила! Свою бы лучше по карманам поискала! Кораллы ей! И за что я их отдавать должна?! Будто твоя Меришка табун коней украла, а не… Меришка, покажи, а? Открой! Дай попробовать!
– Хасиям, да что же это такое, люди!.. – заголосила Брашка, но ее уже никто не слушал: девушки столпились вокруг Мери, которая, присев на корточки, открывала измятую коробку.
Воздушные кремовые пирожные являли собой после галопа по дороге довольно жалкое зрелище, но к бело-розовому месиву немедленно протянулось восемь грязных пальцев, и над дорогой поднялся стон наслаждения:
– Дэвлалэ, дадэ мирэ…[15] Меришка, драгоценная, еще дай, а?! Да-а-ай… а?
– Не дам, – отрезала Мери, захлопывая коробку.
– Ночью одна под периной сожрет, – ехидно заявила Симка, облизывая палец.
– Ничего подобного, – холодно заметила Мери. – Это для нашей Копченки. Она просила.
Несколько мгновений над дорогой висела озадаченная тишина. Затем Брашка солидно кивнула и сказала:
– Это да. Я сама слыхала, чаялэ, верно. Уж какой день у тетки Насти просит сладенького. А где сейчас возьмешь? Тетка Настя ей и так за неделю почти целую сахарную голову скормила, а все мало!
– Брюхатой бабе надо все давать, что просит. Потому что это не она, а дите в ней хочет, ему, стало быть, и требуется! – важно включилась в разговор взъерошенная, как веник, Манярка в изодранной, чудом держащейся на худых коричневых плечах кофте.
– Куда ж ему сахара-то? – усомнилась Симка.
– Тю! Ему там, в пузе, ой как много всего надо! – отозвалась Брашка. – Наша Гапка, когда тяжелая ходила, гвозди кованые у отца выпрашивала и сосала! Клянусь, с утра до ночи! Сына так и зовет теперь – Саструно![16] И, главное, чаялэ, так оно и есть – железный! Надорвуся скоро вся его таскать! У, идол, когда пойдет только, вздохну слободно!
Поднялся хохот. Упомянутый голый «идол» тоже захихикал, блестя двумя горошинками зубов и не забывая при этом теребить бусы на шее юной тетки. Не смеялась только Мери, глубоко задумавшись о чем-то и бережно неся под мышкой коробку с пирожными. Краем уха она слышала болтовню девчонок о том, что Юлька-Копченка совсем плоха, что другие цыганки с такими пузьями как ни в чем не бывало бегают по хуторам, добывая хлеб для семьи, а эта, надо же, уж месяц лежит животом вверх, плачет или спит, а почти вся еда из нее выходит наружу, вот и пирожных жалко, тоже наверняка пропадут… И кто бы мог подумать! Ведь первая добисарка[17] на весь табор была, никому до нее допрыгнуть не удавалось, а теперь что?..
– У, пустяки. Родит и снова забегает! – подытожила Симка. – Глядишь, и замуж выйдет.
– Дура! Куда ей замуж – при живом муже?! – фыркнула Брашка.
– Му-уж… – хмыкнула Симка. – Мужа этого уж какой месяц не видать. Девки, не помните, когда Мардо уехал – до Пасхи или после?
– Какая разница? Все едино муж!
– Муж должен с женой жить! – взвилась Симка. – А не болтаться годами бог весть где! Вон – два года его не было, на третий появился, дитя смастрячил – и снова нет его! А Юльке как жить?!
– Жила же до сих пор… А Мардо, может, и вернется еще.
Мери невольно вздрогнула, услышав последнюю фразу. По спине пробежал озноб, теплый крымский вечер словно разом сменился зимней стужей. К счастью, никто не заметил этого состояния Мери, потому что впереди показалось неглубокое желтое озерцо-лиман, поросшее по берегу высохшим камышом, и девчонки с визгом и воплями помчались к воде. Утруждать себя раздеванием юные добытчицы не стали, да и табор с глазастыми парнями был недалеко, поэтому вскоре мелководье вскипело пестрыми пузырями юбок и рукавов. Брызги взлетали до небес, хохот и визг поднялись такие, что два коршуна, величаво парившие над вечерней степью, стремительно развернулись и, заложив круг, умчались в сторону спускающегося солнца. Девушки не заметили, что Мери не вошла вместе с ними в воду и сейчас одна идет, бережно прижимая к себе коробку с несколькими уцелевшими пирожными, к табору.
Три десятка палаток, розовых от закатных лучей, расположилось на небольшом холме справа от дороги. Там уже загорались костры; цыганки, вернувшиеся из города и дальних хуторов, готовили еду, покрикивали на детей, бегающих между шатрами, устало переговаривались друг с дружкой. Чуть поодаль, в траве, бродили кони, там же вертелись лохматые грязные псы. Несколько цыган, сидя возле лошадей, степенно дымили трубками, неспешно беседовали. Раскалившийся за день воздух свежел, становился прохладным; из степи, как сумасшедшие, верещали цикады. Первые звезды – бледные, чуть заметные – уже проявлялись из темнеющей синевы неба на востоке. Запад весь горел, высвечивая темным золотом каждую травинку на горизонте, заливая атласным блеском спины лошадей, поблескивая то на опрокинутом ведре, то на подвешенном над углями котелке, то на круглой серьге склонившейся над ребенком молодой женщины. Мери со своей настрадавшейся за время пути коробкой подбежала к весело потрескивающему огню и с размаху села на землю рядом со старухой-цыганкой, которая задумчиво мешала ложкой в бурлящем котелке.
– Добрый вечер, тетя Настя!
– Явилась – не запылилась… – с напускным негодованием проворчала цыганка. – Где носило тебя, глупая? Вон уж темнеет, а вас, стрекоз, не сыщешься! Это что, такой закон от новой власти вышел, чтобы немужним девкам в потемках к табору вертаться? Кнута нету на вас, вот что!
– Да ведь не темно еще! – улыбнулась Мери. – И мы все вместе были! А я вот что принесла для нашей Юльки! Как она? Сегодня опять тошнило?
– Да нет, бог, кажется, миловал…
Настя с интересом заглянула в коробку. Мери пристально следила за выражением темного, красивого, несмотря на годы, большеглазого лица старухи. И облегченно вздохнула, когда та подняла взгляд и широко улыбнулась:
– Ах ты, умница моя… Поди, поди, отдай ей скорее! Они ведь скиснут вмиг, ежели сразу не съесть!
– Да вот и я боялась. Только… – Мери запнулась. – Лучше ты сама ей отдай. И… не говори, что я принесла.
– Ну, вот еще! Твоя кофа[18], девочка, тебе и хвастаться! Иди-иди, в шатре Юлька, дрыхнет…
Мери, перестав улыбаться, покачала головой, отвернулась. С лица старой цыганки тоже пропала улыбка. Со вздохом взяв из рук Мери коробку с пирожными, Настя вошла в шатер.
Там было уже совсем темно. Щурясь, старая цыганка с трудом разглядела у матерчатой стены, в том месте, где рыжая полоса заката просачивалась под натянутое полотно, лежащую ничком на перине женскую фигуру.
– Юлька, спишь?
– Нет, – хрипло отозвалась та из полумглы. – Что-то нужно, дае?[19] Я сейчас встану, мне уже хорошо… Голова только кружится, а так совсем хорошо…
– Лежи уж, несчастная… Ничего, скоро опростаешься, недолго тебе мучиться осталось. – Настя села рядом на перину. – Взглянь-ка, что я тебе принесла! Бери-бери! Ешь! На здоровье! Гляди-ка, тут и розовенькое! Это тебе не сахар жженый лизать!
– Дэвлалэ-э… – простонала Юлька, хватая коробку и жадно запуская в нее пальцы. – Ой-й-й, как пахнет… Даленьки… Дэвлалэ, спаси-и-ибо…
Настя только усмехнулась, глядя на то, как Копченка полными пригоршнями вытаскивает из коробки потерявшие всякий вид пирожные и жадно облизывает ладони и пальцы.
– Где ты их взяла? – невнятно спросила Юлька, когда коробка опустела.
– Не я, девки принесли. – Настя помолчала. – Меришка достала. А отцу вон папиросин притащила, да хороших каких! Совсем господских!
С исхудалого лица Копченки пропала блаженная улыбка, губы сжались в жесткую полоску.
– Вон как… – сквозь зубы сказала она. – Совсем ваша раклюшка цыганкой заделалась. Ну, мишто[20], мишто… Должен же кто-то в семью добывать, покуда я тут колодой валяюсь.
Последний луч заката, мигнув, растаял на полоске травы под крылом шатра, стало сумеречно. Ярким пятном просветился сквозь полотнище горящий костер, явственно послышался треск сучьев, чей-то негромкий смех, поддразнивающий девчачий голос, стариковское ворчание.
– Что ты на Меришку все собачишься? – помолчав, спросила Настя. – Что тебе с ней делить? Девочка хорошая, никто в таборе про нее слова дурного не скажет. Цыганкой хочет быть – ну и что худого в этом? Не от хорошей жизни, поди, хочет. Не случись этой заварухи красной-белой, наша Меришка и посейчас бы в хоре романсы пела, и брильянты б ей господа дарили. Над чем тут смеяться? Что у раклюшки никого родни на всем свете не осталось? Что мать гаджэ в овраге убили? Что она с одного только горя к цыганам прилепилась? Девочка-то умная, понимает, что коль с нами живет, то и быть должна как мы. Старается. Получается у нее. Что тебе-то до того?
– Ничего. Паскудно просто, – сквозь зубы, глядя в сторону, произнесла Юлька.
– Чего паскудного? – В голосе Насти появилась сердитая нотка. – Вон, она уж заговорить с тобой боится, а пирожные, гляди, не забыла достать! Хоть ты ее и не просила!
– Много чести! – Копченка даже зажмурилась. – Подыхать буду – а у ЭТОЙ не попрошу!
– Далэ-далэ, да что ж она тебе сделала? – без улыбки покачала головой Настя. – Мужика, кажись, у тебя не сманивала…
– Сам сманился, – хрипло отозвалась Копченка.
– Не к ней ведь, – в тон ей отозвалась Настя.
Юлька вздрогнула. С ее лица пропала гримаса ненависти, оно стало испуганным. Копченка искоса, растерянно взглянула на Настю. Но та словно нарочно смотрела на мечущийся свет костра. Губы Юльки дрогнули, она, наверное, хотела что-то сказать, но, так и не решившись, медленно легла навзничь и уткнулась лицом в подушку. Настя молча поднялась и уже собиралась выйти из шатра, когда увидела, что плечи Копченки дрожат. Вздохнув, старая цыганка вернулась, села, а потом и легла на перину рядом с невесткой, обняла ее:
– Ну что ты, ей-богу, глупая? Пропади он пропадом, Митька твой, – выть еще из-за него! Он же ни одной слезинки твоей не стоит! Пятки твоей не стоит!
– Он тебе сын, не говори та-а-ак…
– Потому и говорю, что сын. Плюнь! Ушел – и слава богу. Да к тому ж – сколько раз он эдак-то уходил, Митька наш? И сколько раз возвращался? Не припомнишь? Он к тебе, девочка, как присужденный – где ни загуляет, а все назад, к своей Юльке бежит!
– Не ко мне, – хрипло возразила Копченка. – Ты меня не утешай, дае, я ведь не дура. Он меня никогда не любил. В табор возвращался, когда хвост ему прижаривали, это да.
– Не было б тебя здесь – и не возвращался бы.
– Да ка-ак же… Уж шутлаги бы ему и ты в миску налила, и подушку б кинула, а что Митьке еще нужно? Ничего… Вор – он вор и есть. И за какой только грех я по нему пропала, дэвлалэ… Кабы я с собой хоть что сделать могла… – Она протяжно всхлипнула, с сердцем вытерла кулаком слезы. – Кабы только могла, дэвлушка…
Настя, не найдя что возразить, тяжело вздохнула. Копченка неловко приподнялась, села, обхватив колени руками, но живот мешал ей, и она откинулась назад. Спутанная прядь волос, выбившаяся из-под перекрученного платка, упала ей на лицо.
– Ну, а Меришка-то наша тут при чем? – спросила Настя, ладонью убирая грязные волосы со лба невестки.
– Так ведь из-за нее, заразы, Митька и ушел! – с ненавистью сказала Копченка, глядя на пятно огня черными злыми глазами. – Из-за нее! Вспомни, мы только сюда, в Крым, повернули – а на другой день его и сдуло!
– Но почему?..
– Потому что здесь – рая![21] Парнэ![22] А Митька в Москве комиссаром был – нешто ты не помнишь?
– Девочка, так где мы – а где Москва?! – взвилась Настя. – Уж не таким развеликим начальником твой вор безграмотный в Москве был, чтобы про него вся Расея знала! Ленину, поди, сапог не чистил Митька твой! Кто его здесь знает, кому он тут нужен, каким господам?! Цыган и цыган! Таборный, грязный, как все! Кто бы догадался-то?!
– Помогли бы догадаться, – сквозь зубы процедила Юлька. – Есть кому.
Настя осеклась на полуслове. И, проследив за взглядом Копченки, вполголоса произнесла:
– Воля твоя, милая, ты рехнулась. С чего ты взяла, что Меришка доносить побежит? Не таковская она! Это же видно!
– Откуда ты знаешь? Откуда?! – почти закричала Юлька, ударив кулаком по перине. – Да Митька… Он, когда уходил, сказал мне… Сказал, что от греха подальше уходит, что раклюшка беспременно его господам сдаст… Так и сказал – княжна продаст! И уже на другой день не было в таборе его-о-о…
– Вот что, девочка, – жестко, перебив Юлькины рыдания, проговорила Настя. – Что Митька сказал, как отбрехался, тебе лучше знать. Но ты ведь и сама не дура. И людей хорошо видишь – иначе какая бы из тебя добисарка была? Меришке нашей цену ты понимать должна. Эта девочка, коли захочет, всех наших голоногих дур переплюнет. И человека она на смерть не продаст. Никакого, даже самого распоследнего. Хотя, может, и стоило бы… не знаю.
Копченка молча закрыла лицо руками. Настя, не глядя на нее, встала, взяла пустое ведро и вышла из шатра. И сразу же увидела сидящую у огня Мери. Та, не шевелясь, смотрела в огонь, ее горбоносое лицо казалось безмятежным. С минуту Настя смотрела на девушку. Затем окликнула:
– Меришка! Давно ты здесь?
– Давно, – спокойно ответила Мери. – Съела Юлька пирожные?
– Ха, съела… Слизала! Чуть не вместе с коробкой заглотила, как щука голодная!
– Ну и слава богу, на здоровье, – глядя прямо в глаза старой цыганке, сказала Мери. Поднялась и, взяв из ее рук ведро, пошла прочь от шатра.
Идти до лимана было недалеко. Поднявшаяся над степью луна бледным молоком залила отлогий, поросший низким камышом берег, серебристыми бликами заиграла на воде, превратила в голубоватый дым сгустившийся над зарослями туман. В камышах что-то сердито зашуршало, и Мери, машинально сжав дужку ведра, остановилась. Но это была всего лишь заблудившаяся чайка, которая, резко крикнув, вскинулась над лиманом и черной тенью прорезала воздух, уносясь к дальнему, невидимому морю. Проводив ее глазами, Мери перевела дух, усмехнулась. Села на траву, поджав под себя ноги. К сердцу подступила смертная тоска. Тоска, которой никто в таборе не должен был ни увидеть, ни понять.
Уже полгода она здесь. Полгода здесь, в кочевом таборе, а до этого были еще несколько лет в Москве, в цыганском хоре, где Мери плясала ничуть не хуже цыганок. Многие удивлялись – для чего ей это? Многие – даже гимназическая подруга Дина, красавица-цыганка, сероглазая примадонна хора.
«Ты же княжна, барышня, для чего тебе с нами в ресторане сидеть?»
«Мне нравится», – улыбалась Мери. И говорила чистую правду. Цыгане пожимали плечами, но не особенно удивлялись: русских певцов и певиц в цыганских хорах всегда бывало достаточно. Опытные хореводы даже утверждали, что эти гаджэ пели и плясали по-цыгански куда лучше самих цыган. По крайней мере, на «таборную цыганку Меришку» съезжалось ничуть не меньше гостей, чем двадцать лет назад – на ее мать, знаменитую Анну Снежную. И, может быть, Мери и пропела бы до старости в цыганском хоре, если б не грянувшая революция, отобравшая у нее и мать, и двоюродного брата, погибшего на Кубани. В конце девятнадцатого года княгиня и княжна Дадешкелиани покинули голодную Москву в крестьянской телеге. Они были намерены пробираться в Крым, куда еще не докатилась новая власть и куда устремлялись толпы беженцев со всего севера России.
Мери вздрогнула, перекрестилась. Передернула плечами, внезапно почувствовав озноб посреди теплой южной ночи. Когда, через сколько лет ей перестанет это сниться?.. Перестанет видеться во сне черная-черная, непроглядная ноябрьская ночь, пустое поле, телега с задранными оглоблями, в которой она очнулась – одна… Рядом не было ни матери, ни мужика, который их вез, ни даже лошадей… никого. До утра Мери бегала по темному полю, спотыкаясь о невидимые бугры, проваливаясь в ямы, и кричала, звала, плакала… Никто не отзывался в ответ. Уже под утро со стороны незнакомого города раздались глухие звуки выстрелов, напугавшие Мери так, что она опрометью кинулась обратно к телеге, зарылась в сено и сидела там до первых лучей солнца. Когда рассвело, девушка обнаружила следы копыт лошадей, удаляющиеся по дороге к городу. В непросохшей осенней грязи видны были и следы знакомых ботинок матери. Сообразив, что, скорее всего, и мать, и хозяина повозки увел обнаруживший их ночью красный разъезд, Мери помчалась по дороге к городу.
Она провела в Серпухове несколько дней, но так и не смогла ничего узнать о судьбе матери. Страшную мысль о том, что она, скорее всего, убита, подтвердили и жители, шепотом рассказавшие маленькой княжне о регулярных расстрелах «контры» в балке. Идти Мери было некуда. Денег не было, еды тоже. Она сама не помнила, как мутным, снежным днем оказалась на вокзале, как лишилась чувств от голода. Там, под платформой, ее и нашли цыгане. И привели в табор, стоящий на окраине. И первой, кого увидела среди палаток Мери, оказалась ее московская подруга Дина. Вся ее семья бежала из столицы после того, как в доме на Живодерке были застрелены отец Дины, красный комиссар и трое красноармейцев.
Первое время Мери страшно боялась, что таборные цыгане прогонят ее, и изо всех сил старалась быть полезной: ухаживала за заболевшей подругой, помогала по хозяйству ее матери и бабке, ходила по деревням вместе с цыганками, учась тому, что любая цыганская девчонка умеет с малолетства: выпрашивать и гадать. Через несколько месяцев уже никто не узнал бы в черномазой горбоносой девчонке княжну Дадешкелиани. И Мери, которая рассчитывала продержаться в таборе хотя бы до весны, а там – потихоньку трогаться в Крым, не раз ловила себя на мысли, что ни в какой Крым она, наверное, не хочет… И не только потому, что таборная жизнь оказалась тяжелой, но ничуть не страшной, что цыгане, похоже, любили ее, что Мери чувствовала себя в безопасности среди этих оборванных, шумных людей, крепко державшихся друг за друга среди сошедшей с ума страны, среди стрельбы, ужаса и голода. Девушка знала: пока она здесь, у цыган, ей ничто не грозит. Что по сравнению с этим рваная юбка, голые ноги, протянутая за подаянием рука? Ведь руку тянула не княжна Дадешкелиани, а девчонка-цыганка по имени Меришка – в таборе ее никто и не звал по-другому. Зимой Мери попробовала, на свой страх и риск, гадать – и, к своему изумлению, имела успех. В отличие от цыганок она понимала, какие слова нужны замученным войной, голодом и продразверсткой бабам в деревнях, испуганным женщинам в городских потрепанных платьях на полустанках и в вагонах поездов, идущих на юг, заросшим бородами, пахнущим табаком и потом солдатам. Она знала, чем живет, чем мучается огромная растерзанная страна, догадывалась, каких слов ждут от нее, на что отчаянно надеются уставшие люди. И уверяла солдат, что война скоро кончится, а им всем дадут от советской власти землю, кому сколько нужно. И обещала крестьянским теткам отмену налогов, большой урожай, возвращение сыновей и то, что корову новое правительство вернет непременно, а может быть, и двух. И шепотом говорила растерянным дамам интеллигентного вида такие вещи, что те плакали в скомканные платочки и отдавали замызганной пророчице последние золотые побрякушки. Цыганки одобрительно посмеивались, подмигивали друг дружке:
«Вот кому-то счастье в семью будет, невестка удачливая! Эй, Меришка, замуж за цыгана-то пойдешь?»
«Полюблю – так и пойду!» – лихо отвечала девушка, отчаянно боясь в глубине души – вдруг кто-нибудь из этих пронырливых, языкатых, видящих все насквозь теток догадается, что она – уже… Уже влюблена до смерти. И ничего не может с этим поделать.