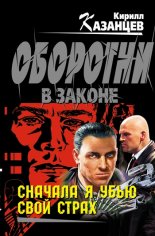Чужое сердце Градова Ирина
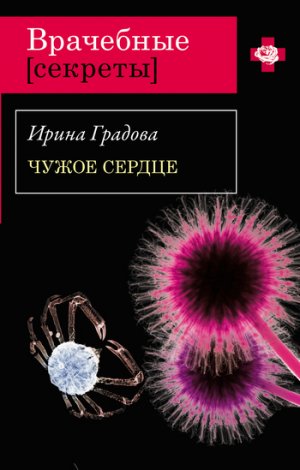
– Чем чаще вы говорите об этом, – заметила Ивонна, – тем больше деталей всплывает в вашей памяти.
– Меня не было минут двадцать, – ответила Татьяна на мой вопрос. – Ну, от силы, полчаса!
Мы с Никитой переглянулись: маловато времени для того, чтобы приметить ребенка и придумать, как выманить его из игровой комнаты.
– А девушка, которая играла с детьми, никого подозрительного не заметила? – поинтересовался Никита.
– Вам же жена уже сказала – эта идиотка свои глаза дома забыла! – воскликнул Лавровский. – И как она могла не увидеть, что мальчика забирают из игровой комнаты?
– Ну, это как раз легко объяснить, – вмешалась Ивонна. – Если она так невнимательна, то вполне могла решить, что ребенка просто забирают родители. Это означает, что ваш сын добровольно и сразу последовал за незнакомцем.
– Но я всегда учила его никогда не ходить с теми, кого он не знает!
– Значит, он его знал, – сделала вывод Ивонна, и все мы удивленно посмотрели на психолога.
– Господи, что вы такое несете! – развел руками Лавровский. – Вы хотите сказать, что Толик знал преступника, который его похитил?
– Это возможно, – кивнула Ивонна. – Иначе как объяснить происшедшее? С другой стороны, дети частенько ослушиваются родителей, когда им предлагают что-то интересное или необычное. Может, и с вашим сыном случилось именно это? Похититель мог чем-то заинтересовать Толика, и он легко и добровольно последовал за ним. У тех, кто занимается подобными делами, обычно существуют свои приемы, и они хорошо знакомы с психологией. Даже взрослые люди порой поддаются на их уловки, чего уж говорить о детях!
– Давайте вернемся к моменту исчезновения вашего сына, – предложила я. – Вы сразу же обратились в милицию?
– Сначала я подняла на ноги всю охрану комплекса, и мы все вместе искали его, вызывали по громкой связи, а потом они сами посоветовали вызвать милицию, потому что Толика нигде не оказалось.
– Нас каждый день таскали на допросы, – сказал Лавровский с горечью, – а дело так с места и не сдвинулось! Мне кажется, они хотели заставить нас сознаться в том, что мы сами избавились от собственного сына, можете себе представить?! Тогда они могли бы со спокойной совестью закрыть дело.
– Не стоит обижаться, – сказала на это Ивонна. – Это обычная практика – родители становятся первыми подозреваемыми в делах об убийствах и похищениях детей. И, что самое страшное, в семидесяти процентах случаев так оно и есть!
– Мы бы никогда такого не сделали! – воскликнула Татьяна, сцепив руки так, что побелели костяшки пальцев. – Толик… он слишком дорогой ценой нам достался! Да и вообще… Убить собственного ребенка – это же уму не постижимо!
Я понимала эту женщину. Мне тоже сложно представить такое зверство, но за время работы в ОМР я уже достаточно насмотрелась, чтобы почти перестать удивляться. Мы поговорили еще минут двадцать, потом Никита еще раз заверил родителей мальчика, что им не о чем беспокоиться: состояние их сына хорошее, и ему не грозит никаких серьезных последствий.
– Вы их найдете? – спросил Лавровский напоследок, когда мы уже собирались уходить.
– Надеюсь, – сказала я, но голос мой, боюсь, прозвучал не слишком уверенно. – Во всяком случае, сделаем все возможное!
– Скажете, у вас есть дети?
Татьяна посмотрела на меня с надеждой и беспокойством.
– Да, есть, – ответила я. – Сын.
– Тогда вы нас понимаете. Найдите их, потому что до тех пор, пока эти… в общем, пока они гуляют на свободе, ни одна мать, ни один отец не смогут спать спокойно!
Наши занятия на курсах английского неожиданно возобновились. Елена сама обзвонила всю группу и попросила приходить в обычное время. Честно говоря, я обрадовалась, ведь в последнее время хорошие новости стали редкостью. Однако, придя на урок, я поразилась изменениям во внешности нашей преподавательницы. Всегда подтянутая, легкая, прекрасно одетая и неизменно жизнерадостная, теперь она выглядела так, словно переболела тяжелой болезнью. Круги под глазами, морщины, раньше незаметные, да и костюм выглядел неглаженным – создавалось впечатление, что она нацепила первое, что подвернулось под руку.
– Ваш сын поправился? – вежливо поинтересовался один из моих одногруппников, на что Елена как-то странно и холодно ответила положительно.
Тем не менее занятие прошло неплохо, можно даже сказать, как обычно, если бы не один неприятный и настораживающий момент. Обычно Елена всегда доброжелательно отвечала на наши вопросы, даже самые идиотские, но сегодня она была явно не настроена их выслушивать. Как я уже упоминала, наша группа разновозрастная, поэтому всегда находятся те, кто откровенно «тормозит», не понимая новую тему, особенно, когда речь идет о грамматике. И вот, когда Вероника, одна из пожилых студенток, в очередной раз спросила, чем же все-таки отличается настоящее перфектное время от простого прошедшего, Елена взорвалась и довольно грубо высказала Веронике, что она о ней думает. Мы остолбенели, а наша преподавательница, внезапно оборвавшись на полуслове, обвела нас ошалелым взглядом, после чего закрыла рот рукой, словно ее вот-вот вырвет, и выскочила из комнаты. Вероника часто моргала, пытаясь сдержать слезы: в ее возрасте трудно пережить такое обращение со стороны более молодого человека, к тому же еще и преподавателя.
– Вы не расстраивайтесь, – сказала моя соседка по парте, Алена. – Просто с ней сегодня явно что-то не так!
– Это точно, – пробормотала я и вышла следом за Еленой. Однако, как я ни старалась разыскать ее в здании школы, где располагались наши курсы, у меня ничего не вышло: наша преподавательница бесследно исчезла.
Вечером того же дня я, Никита и Ивонна приехали в офис ОМР, расположенный в бизнес-центре под названием «Волна». Вика и Карпухин находились уже там, но Лицкявичус подъехал только через полчаса. Все это время мы недоумевали в отношении причины его опоздания, ведь обычно такого никогда не случалось, особенно, если встречу назначал он сам. Только майор не казался удивленным, но, как бы там ни было, он не спешил делиться с нами своими мыслями. Наконец дверь распахнулась, и в кабинет влетел Лицквичус.
– Извините, – коротко бросил он, скидывая кожаный плащ, – задержался: пробки, пятница ведь – народ на дачу едет.
– Поговорил? – спросил Карпухин.
– Поговорил.
– Это вы про что? – поинтересовался Никита. – Может, и нам стоит знать?
– Стоит, – согласился Лицкявичус. – Сегодня я съездил в четыре больницы…
– Давай я, лады? – предложил Карпухин. – В общем, дело в следующем. Я нарыл еще с десяток дел, похожих на дело Лавровских. Пришлось попотеть: вы не представляете, сколько детей пропадает ежегодно в одном только Питере и его пригородах! Большинство так никогда и не находят, но этим десяти повезло – они вернулись домой. Были возбуждены дела о похищениях. Всем детям от трех с половиной до десяти лет, и у всех у них удалили те или иные органы, в основном по одной почке, иногда часть печени, связки. У одной девочки удалена роговица глаза.
– Боже мой! – в ужасе воскликнула я и встретила взгляд Ивонны, которая выглядела потрясенной до глубины души.
– Все похищения произошли в разные годы с двухтысячного по нынешнее время, – продолжал между тем Карпухин. – Ни одно из них не раскрыто. Основная версия – отправка органов российских детей за границу, однако никаких доказательств этого я не обнаружил. Дела вели несколько разных следователей, и разговор с ними практически ничего не дал: все нити обрывались в самом начале расследований, так как дети, являвшиеся единственными свидетелями происшедшего, ничего не смогли вспомнить.
– Как Толик! – заметил Никита. – Возможно, им тоже кололи бензодиазепины или что-то еще.
– Например, рогипнол, – кивнула я. – Отлично отшибает память!
– Во всех случаях, – продолжал майор, – первым делом, как водится, под подозрение попадали родители, но эта версия ни к чему не приводила, а больше никаких версий не возникало – кроме «международной», уже мною упомянутой. Так что все дела отложили в долгий ящик.
– Вы сказали, Артем Иванович, что эти десять детей вернулись домой, – осторожно начала я. – Означает ли это, что вы подозреваете, что могут быть и другие, не вернувшиеся?
Майор посмотрел на меня тяжелым взглядом.
– Все может быть, – ответил он. – Боюсь, мы об этом никогда не узнаем. Пока что придется иметь дело с этим «счастливым», если можно так выразиться, десятком. Я займусь детьми и их родителями, а Андрей должен был взять на себя больницы, которые принимали пострадавших после того, как тех вернули, вернее сказать, подбросили в разные места города. Так каков результат? – этот вопрос уже адресовался Лицкявичусу.
– Как мы и ожидали – не слишком обнадеживающий, – ответил тот. – Особенно по прошествии лет. Никаких бумаг о госпитализации не сохранилось, с компьютерными базами данных – тоже облом: я вообще не понимаю, зачем оборудовать больницы компьютерами, если в базе все равно огромные дыры и персоналу недосуг вносить туда сведения о пациентах! Зато удалось побеседовать с парочкой врачей, еще помнящих о тех случаях, – к счастью, у них оказалась хорошая память.
– Да, но ведь и случаи из ряда вон выходящие! – заметил Никита.
– Тем не менее, – вздохнул Лицкявичус, – я бы не сказал, что врачи сильно помогли. Они говорят то же самое, что и заведующий отделением хирургии, где лежит Лавровский. Все операции проведены с ювелирной точностью, дети находились в удовлетворительном состоянии.
– Да-с, – пробормотал Карпухин. – Дела обстоят хреново, вот что я скажу. Что до мест похищения или возврата детей, зацепиться тоже не за что, потому что ничего общего между ними нет, так что установить какой-то радиус действия, в котором могла бы находиться клиника, невозможно. Надо работать в других направлениях. Скорее всего, дело Толика Лавровского тоже присоединится к висякам, и можно лишь порадоваться, что парнишка выжил!
– И все же это выглядит очень странно, – сказал Кобзев, поняв, что Лицкявичусу и майору больше нечего добавить.
– Ты о чем? – поинтересовался Лицкявичус.
– Ну, сами посудите: детей похищали, но не «потрошили», как можно было бы ожидать, а всего лишь, если, конечно, можно так выразиться, вырезали какой-то орган – чаще всего парный или тот, который легко восстанавливается, как печень. Между прочим, оставляя за кадром моральный аспект, у здорового ребенка существует еще полно других органов, которые можно «позаимствовать», да и стоят такие органы немалых денег. И все же те, кто этим занимается, избрали очень странный, «щадящий» способ использования детей. Разве это не очевидно?
– Не забывайте, что это касается лишь тех, кто выжил, – вставила я. – Выживших десять человек, а дел, думаю, гораздо больше!
– Причем в десятки раз! – подтвердил Карпухин. – С другой стороны, никто не говорит, что все похищения связаны между собой.
– Павел прав, – заговорил Никита. – Кто бы за этим ни стоял, зачем так тратиться, ведь реабилитация стоит дорого, да и само содержание пациентов в необходимых условиях на это время требует затрат. Более того, они рискуют, возвращая детей родителям, ведь кто-то мог что-то видеть, а это, в свою очередь, способно вывести на похитителей.
– А вы уже говорили с кем-то из родителей? – спросила Ивонна, устремив взгляд на Карпухина. – Думаю, вам могли бы понадобиться наши с господином Кобзевым услуги, ведь не все эти люди будут охотно вспоминать то, что произошло несколько лет назад.
– Я об этом думал, – кивнул майор. – Разумеется, я с удовольствием приму вашу помощь, потому что уже предвижу проблемы, ведь следствие по всем этим делам зашло в тупик и родители не получили никакой, даже моральной, компенсации за то, что случилось с их детьми. Уверен, нам еще придется попотеть, чтобы заставить их говорить!
Все время нашего разговора я напряженно пыталась уловить и оформить мысль, которая постоянно скребла у меня в мозгу с тех пор, как я поговорила с родителями Толика Лавровского. Что-то тогда показалось мне не вполне правильным, но я никак не могла понять, что именно.
– Вы хотите что-то сказать? – поинтересовался Лицкявичус, внимательно глядя на меня.
– Да… то есть нет – пока нет, – ответила я неуверенно. – Мне нужно подумать.
– Что ж, – сказал он, – нам всем нужно подумать, полагаю, потому что пока мы ни на шаг не продвинулись в расследовании. Мне сейчас вообще кажется, что мы взялись не за свое дело, и я дал согласие на участие ОМР только по двум причинам: милиция расписалась в собственном бессилии.
– Вы сказали, что есть две причины, – заметила я.
– Вторая – к нам обратилась Татьяна Лавровская. Она просит, чтобы именно мы попытались выяснить, что именно и почему произошло с ее ребенком. На нее давит милиция и социальные службы, и она боится, что они могут вообще отобрать мальчика и передать в детский дом. Ей сейчас приходится нелегко, и мы, похоже, ее единственная надежда. Нужно доказать, что Лавровские не имели отношения к случившемуся.
– Господи, неужели они и в самом деле думают, что мать и отец могли продать печень собственного сына? – спросила я.
– Агния, вы же уже взрослая женщина и должны знать, что люди делают вещи и похуже! – укоризненно покачал головой Лицкявичус.
– Но ничего хуже этого просто и быть не может! – возразила я. – Родителей и детей связывают узы, которые считаются святыми и нерушимыми… Конечно, я понимаю – бывают случаи, когда мать или отец алкоголики, наркоманы, но Лавровские-то нормальные, хорошие люди!
– К сожалению, – сказал Павел, – такие выводы невозможно делать, основываясь лишь на личном впечатлении, иначе все преступники сидели бы в тюрьме, а добропорядочные граждане никогда не оказывались бы на скамье подсудимых!
– Правильно, – кивнул Лицкявичус. – Давайте не будем делать преждевременных выводов. Вместо этого предлагаю, чтобы Ивонна и Павел как следует и со всех сторон «обработали» Лавровских, чтобы на всякий случай исключить их причастность к похищению мальчика. Артем, ты займешься старыми делами: нужно охватить как можно больше людей, чьи дети в конце концов были возвращены. Пока, к сожалению, это все, что мы можем сделать. А я постараюсь как можно дольше не подпускать соцработников к семейству Лавровских.
В тот день у меня было три операции на ортопедии, и две из них проводил Олег. После второй у нас выдалось минут сорок свободного времени, и мы отправились в больничное кафе. Это заведение общепита является предметом особой гордости главного. Во-первых, здесь варят отменный кофе во второй в больнице суперкофеварке (первая – опять же усилиями главного – стояла в приемном покое). Кроме того, у нас работает отменный повар-кондитер, а это значит, что в продаже всегда имеются пирожки, крендельки, пирожные собственного приготовления – честное слово, в нашей больнице стоит полежать хотя бы для того, чтобы отведать разнообразных вкусностей, каких вы не получите ни в каком другом месте! Ну и, наконец, интерьер кафе с его деревянными столиками и скамейками заставляет вас на время трапезы полностью отключиться от мысли, что вы на самом деле находитесь в больнице, а не в уютном месте отдыха.
– Ну, как твои старухи? – поинтересовалась я, как только Олег подошел с подносом, уставленным тарелками. – Не бузят больше?
– Бузят помаленьку, – вздохнул он, присаживаясь и подвигая ко мне беляши и кофе. – Беда в том, что к некоторым из них никто не приходит, понимаешь? То есть ухаживать некому, а это значит, что они могут сутками валяться в собственных испражнениях, и никому до этого нет никакого дела.
Олег прав. Наша больница на хорошем счету в городе, многие прямо-таки мечтают сюда попасть – из-за хороших врачей в большинстве отделений и новейшей диагностической аппаратуры. Тем не менее вопрос с уходом за лежачими у нас не решен, как и во всех остальных медицинских учреждениях. Сестер и нянечек катастрофически не хватает, так как зарплаты у них смешные, а работа такая, что под силу далеко не каждому мужчине, не говоря уж о хрупких девчонках, только что из медицинских колледжей. Подобно другим больницам, в качестве нянечек у нас в основном работают выходцы из бывших братских республик – Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Я отнюдь не националистка, тем более что мои предки и сами приехали из Грузии, но у большинства этих людей нет даже вида на жительство! Начальство вынуждено нанимать их, закрывая глаза на отсутствие нужных документов, потому что выхода нет: на такую зарплату не польстится человек, имеющий хоть какой-то выбор. Но проблема заключается не в бумажках, а в отношении к жизни. Во-первых, человек, которого здесь ничто не держит, в любой момент может сняться с места и перепорхнуть на другое. А это, в свою очередь, означает, что и ответственности он никакой не ощущает. Еще один момент: у наших «восточных» работниц обычно большие семьи, а зарплаты, как уже упоминалось, маленькие. Жить, однако же, нужно всем, а потому пациенты частенько недополучают даже тот скудный больничный рацион, который им положен. Нянечки сумками уносят с работы вареные яйца, масло, молоко, и больным порой не достается даже хлеба, потому что его тоже тащат домой хозяйственные мамаши больших семейств. С другой стороны, дело, конечно же, не в национальности, а в том, что вся система здравоохранения еще с советских времен финансируется по остаточному принципу. В нашей стране уже давно во всем виноват либо лично Чубайс, либо коммунисты, однако советской власти нет уже много лет, Чубайс давно ничего не решает, а в медицине ситуация не только не изменилась к лучшему, но и с каждым днем делается все хуже и хуже. Если бы всем в больнице платили достойную зарплату, не было бы необходимости пополнять свой скудный бюджет за счет пациентов. Опять же тех, кто просто не чист на руку, можно было бы уволить и тут же нанять новый персонал, который не станет злоупотреблять своим положением и отнимать у больных и несчастных людей кусок хлеба или разбавлять молоко для каши водой, чтобы сэкономить для себя пару-тройку литров. А так заведующим отделениями приходится сквозь пальцы смотреть на «художества» младшего медицинского персонала, так как они знают, что, уволив нянечку, они просто освободят место, которое, скорее всего, так и останется незанятым. Так же дело обстоит и с медсестрами. Чаще всего одна и та же сестричка разрывается между двумя, а то и тремя постами, а это означает, что она не успевает отследить, когда заканчиваются капельницы, и раздать все необходимые лекарства, не говоря уже о том, чтобы лично дать их пациентам, которые не могут подняться, чтобы принять таблетки самостоятельно. Частично ситуацию удается немного исправить при помощи практикантов из медучилищ и вузов, но это, само собой, не является решением проблемы. Вот и выходит как в известном юмористическом монологе: «Ходячие помогают сидячим, сидячие помогают лежачим, а лежачие лежат и не рыпаются!» В общем, уход за больными становится делом «ходячих» пациентов. Это, разумеется, отвратительно и неправильно, но в ближайшее время, судя по всему, ничего не изменится. Таким образом, старики, к которым никто не приходит, оказываются в самом что ни на есть плачевном положении из всех возможных: большего унижения человеческого достоинства трудно себе даже вообразить.
– Ординаторы, слава богу, не сбежали, – продолжал между тем Олег. – Надеюсь, происшедшее научит их в следующий раз вести себя более корректно.
– Да уж, твое «наказание» было чертовски действенным! – усмехнулась я.
В глазах Шилова заплясали веселые искорки. Я обрадовалась этому. В последнее время Олег выглядел измученным, и я даже опасалась, что его физическое здоровье ухудшилось из-за тяжелой ситуации в отделении. Его глаза были тем, во что я влюбилась, как говорится, с первого взгляда. Необычного серо-зеленого цвета с карими крапинками, они отражали каждую перемену в его настроении. В отличие от Лицкявичуса, чей взгляд всегда оставался непроницаемым, несмотря на то, что глаза у него очень светлые и прозрачные. До встречи с главой ОМР я считала, что непроницаемость взгляда – удел людей вроде меня. Мои глаза черны, как южная ночь, и они ни при каких обстоятельствах не меняют своего цвета… Вот я и поймала ту мысль, которая ускользала от меня столь долгое время!
– Шилов, а какие глаза у твоих родителей? – спросила я, и Олег от неожиданности едва не подавился пирожком с рисом.
– Что значит – какие? – откашлявшись, переспросил он.
– Ну, какого цвета?
Он на мгновение задумался.
– У мамы – как у меня, по-моему, а у отца… Да, у отца голубые глаза, а что? Странные вопросы ты задаешь, Агния, с тобой не соскучишься!
Мой мозг в бешеном темпе обрабатывал его ответ. Я еще не знала, может ли мое открытие иметь какое-то значение, но один факт показался мне немного необычным: оба Лавровских являлись обладателями красивых карих глаз, а вот глаза их сына были светло-серыми.
На улице шел сильный дождь. Был как раз один из таких дней, которые заставляют меня вспомнить о том, почему я не люблю Питер: встаешь рано утром, вокруг кромешная тьма, а за окном – настоящее светопреставление. Крупные капли тяжело барабанят по карнизам, дует ветер, при котором использование зонта кажется делом совершенно бесполезным, а деревья с неумолимо желтеющими листьями, такими зелеными и сочными еще две недели назад, трещат и гнутся.
С тех пор, как я познакомилась с Лавровскими, прошло около месяца, и все было тихо. И вот вчера вечером позвонила Вика и сказала, что случай с Толиком, возможно, имеет продолжение: в детскую больницу Зеленогорска доставили ребенка с отсутствующей правой почкой. Завтра с утра мне надлежало отправиться туда. Сопровождать меня вызвался Никита, и сейчас я ждала, когда он подъедет, стоя на крыльце своего дома и переминаясь с ноги на ногу от холода – наверное, следовало все же одеться потеплее! Это моя обычная ошибка: в попытке отсрочить неизбежное я нацепила легкий костюм и накинула джинсовую куртку, хотя, судя по градуснику за окном, я явно погорячилась. Оставалось лишь надеяться, что предусмотрительный Никита включил обогреватель в своей комфортабельной «Вольво».
Он подъехал, опоздав всего на пять минут, но мои конечности уже успели задеревенеть. Нырнув на переднее сиденье, я сразу же окунулась в тепло салона и собиралась уже пошутить по поводу погоды, но заметила в зеркале лицо Никиты и проглотила свои слова.
– Что-то случилось? – спросила я встревоженно.
– Это касается мальчика, – ответил он серьезно, без улыбки. – Того, которого доставили в зеленогорскую больницу: он в очень тяжелом состоянии.
Я не ожидала этого услышать. Возможно, до встречи с Толиком Лавровским – да, но, увидев веселого и практически здорового ребенка, почему-то решила, что и второй мальчик должен находиться примерно в том же состоянии.
– Что с ним такое?
– Большая потеря крови. Возможно, даже заражение – еще неизвестно. Его доставили в реанимацию, но условия в Зеленогорске, сама понимаешь, отличаются от городских, поэтому, вполне вероятно, его придется транспортировать сюда.
– Потеря крови? – удивилась я. – Как такое могло случиться? Ведь Толик поступил в удовлетворительном состоянии, ты сам его осматривал…
– Ну, может, в этом случае мальчиком занимались какие-то другие мясники? – пожал плечами Никита. – Кто вообще сказал, что есть связь? Мы как раз и должны проверить, так ли это.
Детская зеленогорская больница в целом производила приличное впечатление, однако на самом деле симпатичный фасад и домашние занавески на окнах призваны были скрывать недостаток медикаментов и аппаратуры, необходимой для нормального функционирования любого медицинского учреждения.
– Жуткая ситуация! – покачала головой заведующая отделением, невысокая полная женщина лет пятидесяти по имени Ирина Юльевна Рушко. Она выглядела ухоженной и явно озабоченной нашим визитом. – Никогда с подобным не сталкивалась, честное слово!
– Мы осмотрим мальчика позднее, – сказал Никита. – А пока нам хотелось бы узнать о том, как его обнаружили и доставили сюда.
– Ну, насколько я знаю, его нашли на автовокзале.
– Где?! – переспросила я с изумлением.
– Да-да, именно так, – вздохнула заведующая. – Наверное, мальчик собирался сесть в автобус, идущий в Петербург, но, во-первых, у него не было ни копейки денег, во-вторых, его одежда слишком сильно напоминала больничную, и народ на вокзале обратил на него внимание. И, надо сказать, слава богу: если бы не бдительность этих людей, ребенок мог умереть прямо там. Дело в том, что у него разошлись послеоперационные швы, и началось обильное кровотечение. Кроме того, анализы показали остаточное наличие бензодиазепина.
– Он что-нибудь сказал? – спросил Никита. – О себе или о том, что с ним произошло?
Рушко покачала головой.
– К сожалению, нет. Нам пришлось срочно заштопать его, перелить чуть ли не литр крови и плазмы, но этого, к сожалению, очень мало. Группа у мальчика редкая, поэтому найти родителей – вопрос жизни и смерти при данных обстоятельствах.
– Напишите, что нужно достать, – сказала я заведующей. – Думаю, мы сможем это устроить.
– В самом деле? – обрадовалась Рушко. – Что ж, тогда… И лекарства можно написать?
– Пишите все, что сочтете нужным, – кивнул Никита.
Она быстро принялась писать, и я подумала, что Вике сегодня, видимо, придется как следует поработать. Закончив, Рушко протянула мне листок бумаги с вытравленным изображением кадуцея в углу.
– Просто не верится! У нас тут дела обстоят не самым лучшим образом, – словно извиняясь, сказала она. – Много чего не хватает. Мы много раз просили – и кровь, и медикаменты, и аппаратуру обновлять пора, но нам говорят, что и городские больницы недополучают лекарств, поэтому нам даже надеяться не на что.
Я ее прекрасно понимала и от всей души сочувствовала. То, что происходит с нашим здравоохранением в последние десять-пятнадцать лет, иначе как падением в глубокий колодец не назовешь! В очередной раз порадовалась, что наш Главный, возможно, и не ахти какой душа-человек, но он держит нос по ветру и умеет налаживать связи с «нужными» людьми, чтобы получить то, что ему необходимо.
– А теперь мы хотели бы осмотреть пациента, – сказал Никита, поднимаясь.
– Боюсь, осмотр получится поверхностный: мальчик на обезболивающих и снотворных, и мы собираемся поддерживать его в этом состоянии до тех пор, пока жизненные показатели не стабилизируются.
– Ничего, пусть так, – согласился Никита. – Пошли?
Его последний вопрос был адресован мне.
Отделение реанимации представляло собой небольшое помещение на первом этаже больницы, а в самой палате имелось всего две койки, которых явно было недостаточно для целого городка. Одна из них, правда, оказалась свободна, а на второй лежал наш мальчик. Реанимационная медсестра встала при виде нас в сопровождении завотделением.
– Все в порядке, Лена, – успокаивающе сказала Рушко. – Это наши коллеги, они просто осмотрят мальчика. Как он?
– Не очень, Ирина Юльевна, – удрученно покачала головой немолодая уже женщина. – Но будем надеяться на лучшее.
– Как обычно, – слегка улыбнулась заведующая.
Мы с Никитой склонились над маленьким пациентом, который выглядел странно, увитый проводами. Дыхательный аппарат, стоящий рядом с койкой, был отключен: ребенок дышал самостоятельно, и это вселяло надежду на выздоровление. Вглядываясь в его землистое лицо, я с удивлением обнаружила, что оно почему-то выглядит знакомым. Еще через пару секунд у меня вырвался возглас недоверия и удивления.
– Ты чего? – спросил Никита, нахмурившись.
– Я его знаю! – воскликнула я. – Только… этого просто быть не может!
– Так, Агния, еще раз: вы точно уверены, что этот мальчик вам знаком?
Я сидела в кабинете у заведующей отделением детской реанимации, а Лицкявичус нависал надо мной, как статуя Командора над Дон Жуаном.
– Разумеется, уверена! – в очередной раз подтвердила я. – Я много раз была у Елены дома и встречалась с ее сыном. Он, конечно, изменился, и я, признаться, не сразу его узнала, но ошибка совершенно исключена: это Владик Красин, сын моей преподавательницы английского!
– Хорошо, допустим, – кивнул Лицкявичус, отодвигаясь, отчего я ощутила серьезное облегчение, так как до этого мне казалось, что глава ОМР буквально перекрывает доступ кислорода в мои легкие. – Связи с Карпухиным нет – он на выезде, но ему сообщат, как только будет такая возможность. Давайте надеяться, что вы действительно не ошиблись, и Елена Красина на самом деле является матерью мальчика. Это тем более важно, что ему может понадобиться кровь, плазма и, возможно, даже спинной мозг его матери или отца. На данный момент нам удалось достать немного крови и плазмы, но это не значит, что мы полностью справились с проблемой.
– Почему он в таком плохом состоянии? – спросила я удрученно. – Толик ведь в порядке!
– Боюсь, сейчас наверняка мы ничего сказать не сможем, – ответил Лицкявичус. – Давайте надеяться, что мальчик сам все расскажет, когда сможет. А пока подождем вестей от Карпухина.
– Может, перевезем его в другую больницу? – предложил Никита. – В ту, где Лавровский лежит, например, – она не самая плохая в городе…
– Нельзя! – отрезал Лицкявичус. – Транспортировка может ему повредить. Прямой угрозы жизни нет, за ним здесь хорошо присматривают, а там видно будет.
– Да вы не переживайте! – вмешалась в разговор заведующая Рушко. – Мы позаботимся о мальчике до тех пор, пока вы не сможете с ним поговорить или не отыщете мать. Теперь, когда вы привезли самое необходимое, с ним все должно быть в порядке.
– Вы уже сообщили в соцслужбу? – поинтересовался Лицкявичус.
– Мне пришлось, – закивала Рушко. – Вы же знаете – у нас указания…
– Знаю-знаю, – прервал он женщину. – Они еще не приходили?
– Нет, но, думаю, появятся в ближайшее время.
– Что ж, – покачал головой Лицкявичус, – остается надеяться, что Карпухин отыщет эту вашу Елену Красину раньше, чем сюда набегут гунны. Ладно, сейчас отбой, а вечером всем быть в «Волне» – скорее всего, к тому времени появятся какие-то определенные сведения, которые подскажут, что нам делать дальше.
Возвращаться домой не имело смысла, поэтому Никита подвез меня до Первого меда, где я съела в буфете поздний завтрак, после чего отправилась читать первую из двух сегодняшних лекций.
Получив в деканате план лекционных и семинарских занятий, я самым внимательным образом просмотрела его и пришла к выводу, что если теоретические и практические аспекты, непосредственно касающиеся медицины, освещались в нем довольно хорошо и полно, то моральный аспект отсутствовал полностью. Я обратила на это внимание декана лечфака (лечебного факультета), но он только сказал, что в университете есть предмет «медицинская деонтология» (медицинская этика: deon – долг, logos – наука), который полностью включает в себя то, о чем я говорю. Да уж, я знаю о существовании этого предмета, который, между прочим, является факультативным, то есть необязательным. До девяностых годов медицинскую или биомедицинскую деонтологию вообще обходили стороной, видимо, полагая, что врачу вполне достаточно профессиональных знаний. До того как стала работать в ОМР, честно признаюсь, я и сама нечасто задумывалась над этой проблемой. Вернее, я вообще не считала, что такая проблема существует – возможно, этому способствовала специфика моей профессии. Анестезиолог редко сталкивается непосредственно с пациентом. Мы беседуем с ним один раз, перед операцией, для выяснения наличия аллергических реакций и тому подобного, чтобы правильно подобрать наркоз и дозировку. Обычно этим и ограничивается общение анестезиолога с «живым» больным. В дальнейшем мы видим его перед операцией – уже под действием расслабляющих и успокоительных препаратов, а оставляем еще не отошедшим от наркоза. Так что, лишь вплотную столкнувшись с тем, что вопрос медицинской этики, как правило, повсеместно не принимается во внимание, а также убедившись, что это в некоторых случаях влечет за собой тяжкие последствия, я пришла в ужас. Медицинская деонтология широко преподается в гуманитарных вузах на философских факультетах, но там, где она на самом деле больше всего необходима, считается факультативом – нонсенс! В одном из наших расследований мне пришлось столкнуться со студентами-медиками, относящимися к жизни и смерти человека, как к интересному феномену, некой игре, в которой не существует никаких моральных ограничений[1]. Может, эти ребята, которыми так легко манипулировать в силу молодости и неопытности, не пали бы жертвами подонков от медицины, если бы в университете им преподавали медицинскую деонтологию? То, о чем мы не знаем, нас не беспокоит! А как же быть с тем, что неотъемлемым качеством врача и Гиппократ, и Авиценна, и Парацельс называли сострадание? Рассказ Олега о его ординаторах, веселящихся над постелью больной женщины и отпускающих идиотские шуточки – прямое следствие такого бездумного подхода к обучению. Молодым врачам никогда не приходилось задумываться о том, что факт нахождения пациента в полной их власти еще не дает им права манипулировать ситуацией и вести себя, как римским легионерам в захваченной Александрии!
Поэтому, получив ответ декана, я все же решилась на некоторые изменения в программе, включив в нее беседы о медицинской деонтологии. Надо сказать, материалов было не так много, поэтому пришлось поднапрячь Шилова с его немецким, да и самой посидеть со словарем, переводя из американских журналов статьи соответствующего содержания. Я боялась, что, стоит мне заговорить об этом, как мои студенты заскучают и, вероятно, даже начнут засыпать, сочтя мои слова нудной морализаторской болтовней. К счастью, я ошиблась. К моему удивлению, ребята живо откликнулись на эту тему, и я постаралась сделать все для того, чтобы их интерес не угас. Мои занятия с ними вряд ли можно было назвать лекциями, скорее это были беседы, во время которых желающим позволялось высказать свое мнение. И то, что для обоснования этого мнения им приходилось читать специальную литературу, по-моему, шло лишь на пользу. Думаю, я нащупала тот стиль, который является наиболее приемлемым в работе с молодежью. Само собой, я давала им программный материал, но время от времени, когда это казалось логичным и приемлемым, мы говорили и об ответственности врача, о том, каким должно быть его отношение к пациенту. Меня радовало то, что порой и сами ребята затрагивали эту тему, что говорило об их неравнодушии к проблеме. Частенько мы обсуждали газетные статьи, связанные с медицинской тематикой, поэтому и сегодня я не удивилась, когда одна из студенток, Дина Рапопорт, предложила обсудить одну из таких статей. Она начала зачитывать ее, и я, к своему ужасу, поняла, что речь идет о деле Толика Лавровского. Да, имена действующих лиц были изменены, но ошибиться не представлялось возможным.
– Когда вышла статья? – не позволив девушке дочитать, спросила я довольно резко.
– Сегодня утром, – ответила та, удивленно подняв на меня глаза за толстыми стеклами очков. – Что-то не так?
Персонал педиатрического института предупреждали о том, чтобы информация о маленьком пациенте держалась в строжайшем секрете, и тем не менее она просочилась наружу быстрее, чем мы могли предположить! От кого она исходила – от врачей, медсестер или, может, социальных работников? Разумеется, жадные до сенсаций журналисты не могли пройти мимо такого лакомого кусочка!
– Нет, ничего, – пробормотала я. – Все в порядке, Дина. Так что именно ты хотела обсудить касательно этой статьи?
После лекции, когда ребята выходили из аудитории, я попросила девушку отдать мне газету. Меня интересовала фамилия корреспондента и адрес редакции – возможно, эта информация может нам пригодиться. Карпухин сомневался, что ему удастся разговорить пострадавших от случаев, схожих с тем, что произошел с Лавровскими. Если же верить словам журналиста Олега Гришаева, он имел беседу с некоторыми из этих людей. Быстро, однако же, работает отечественная пресса!
– Трансплантация органов вошла в повседневную медицинскую практику и достигла успехов, которые казались невероятными еще лет десять назад, – говорил Никита, стоя у электронной доски, тяжело опираясь на трость.
Весь известный мне состав ОМР, включая Ивонну, набился в небольшое помещение офиса Лицкявичуса. Присутствовал даже Леонид Кадреску, хотя, к счастью, услуги патологоанатома нам пока не требовались.
– Первые операции по пересадке почек были выполнены в 1950-х, а пересадка сердца впервые была осуществлена в 1967 году, – продолжал Никита. – С тех пор медицина далеко продвинулась в области пересадки тканей, разработаны новые, усовершенствованные методы. Возросла роль трансплантационной хирургии в лечении больных, чьи органы полностью утратили свои функции. Такое состояние называется органной недостаточностью последней стадии. Больной часто оказывается перед выбором между регулярным почечным диализом до конца жизни и пересадкой почки. В случае выхода из строя других органов, функции которых не могут выполнять аппараты, трансплантация является единственным способом сохранения жизни больного. В настоящее время органы пересаживают людям любого возраста.
Одно из основных затруднений – реакция отторжения, которая может разрушить ткань вскоре после ее пересадки. В настоящее время изучение механизма отторжения представляет собой быстро развивающуюся область иммунологии. Существуют различные виды трансплантатов. К примеру, аутотрансплантат – ткань, переносимая из одной части тела в другую, например костная ткань для стабилизации перелома или кожа при лечении тяжелых ожогов. Изотрансплантат – ткань или орган, пересаженный генетически идентичной особи (близнецу). Аллотрансплантат – трансплантат от генетически отличного донора того же вида и, наконец, ксенотрансплантат – от представителя другого вида.
– Ну, как я понимаю, последний вариант мы вообще не рассматриваем? – подал голос Павел, сдвигая очки на нос характерным движением.
– Верно, – кивнул Никита. – Большинство трансплантатов относятся к аллотрансплантатам, то есть передаются от одного человека к другому. Донором может быть живущий родственник или недавно умерший человек. У живых доноров берут только почку и костный мозг. Однако проводятся эксперименты по пересадке небольших участков печени и поджелудочной железы от живых родственников реципиента.
– У Толика отщипнули часть печени, – заметила я. – А у Владика – почку.
Сказав это, я поймала на себе осуждающий взгляд Ивонны. Ну и пусть – к черту эти психологические штучки: я не могу абстрагироваться от личностей этих детей и считать их всего лишь «жертвами» в нашем расследовании! В конце концов, Владика я знаю лично, и это все равно не позволит мне не воспринимать ситуацию как личную!
Никита видел наш с Ивонной обмен взглядами, но не прервался:
– Вся беда в том, что число людей, нуждающихся в пересадке органов, намного превышает количество доступных органов, пригодных для трансплантации как от живых, так и от умерших доноров. Помимо недостатка органов и тканей для пересадки, существует еще большая проблема их отторжения. Отторжение пересаженных органов является результатом нормальной работы иммунной системы, которая предназначена для защиты организма от чужеродного материала. Поэтому неудивительно, что механизмы, вовлеченные в отторжение трансплантата, в основном похожи на те, которые участвуют в борьбе с возбудителями заболеваний. Вот почему так сложно подобрать совместимого донора. Главные антигены гистосовместимости находятся под генетическим контролем одной системы, называемой главным комплексом гистосовместимости (МНС), а минорные антигены гистосовместимости находятся под контролем не менее сорока систем, а возможно, что таких систем – сотни. Полагают, что именно несовместимость МНС донора и реципиента вызывает иммунный ответ против трансплантата, приводящий в конечном итоге к его разрушению. Известны даже случаи отторжения почки и костного мозга при пересадке от одного однояйцевого близнеца другому, МНС которых идентичны! Отторжение с участием антител обычно наблюдается в тех случаях, когда у донора и реципиента несовместимы группы крови. Оно напоминает реакции, протекающие при переливании крови, поскольку антигены клеток крови присутствуют на всех клетках тела. Так, например, если клетки, несущие антигены типа А, пересадить индивидууму с группой крови В или О, то анти-А гемагглютинин свяжется с пересаженной тканью и стимулирует ее характерное разрушение. Таким образом, при оценке пригодности трансплантата необходимо следить за тем, чтобы группы крови реципиента и донора были совместимы. Существуют и другие типы отторжения, но я, в силу недостатка времени и боязни утомить вас, не стану вдаваться в такие подробности.
Необходимо добавить, что существуют так называемые «привилегированные» места и «привилегированные» ткани – особые зоны организма, в которых аллотрансплантаты не вызывают иммунного ответа. Таким образом, пересаженная ткань может жить длительное время или даже неограниченно долго. Одно из наиболее известных «привилегированных» мест у человека – роговица. Пересадка роговицы помогает восстанавливать зрение. Успех этого метода лечения привел к тому, что он стал стандартной процедурой. Роговица не содержит кровеносных сосудов и благодаря этому защищена от воздействия лимфатической и иммунной систем. Наряду с «привилегированными» местами существуют также «привилегированные» ткани, которые менее подвержены отторжению. К ним относятся костный хрящ, сердечные клапаны, участки аорты и других главных кровеносных сосудов, а также сухожилия. Кости и хрящ могут храниться неограниченно долго в высушенном или замороженном состоянии; перед использованием их необходимо регидратировать или оттаять, соответственно. Помимо риска отторжения, существует еще и другая опасность – например, возможность переноса болезней при пересадке трансплантатов. Кстати, последняя проблема недавно была в центре внимания прессы в связи с пересадкой роговицы троим пациентам. Как было установлено позже, женщина-донор страдала болезнью Крейтцфельдта – Якоба, и, следовательно, существовала опасность заражения реципиентов этой болезнью через трансплантаты.
Никита закончил свой краткий ликбез и взглянул в сторону Карпухина, поднявшегося и занявшего его место. Теребя в руках изрядно помятый листок бумаги, куда он время от времени поглядывал, майор сказал:
– Это что касается медицины. Отторжение трансплантатов в прошлом было самым большим барьером на пути к успеху трансплантации. Вероятно, со временем на первое место выйдут другие проблемы, мешающие развитию трансплантационной хирургии. Самой большой из них на данный момент является доступность органов для пересадки. С ростом успехов трансплантационной хирургии увеличивается потребность в донорских органах. Кроме костного мозга и почек, которые берут у живых родственников, все остальные органы получают от умерших людей, то есть условием жизни больного становится смерть другого человека. Как ни странно, введение некоторых законов, способствующих нашей с вами безопасности, мешает развитию трансплантологии! Возьмем хотя бы закон об обязательном использовании ремней безопасности. Кроме того, с успехами медицины и хирургии количество донорских органов для пересадки уменьшилось. По некоторым данным, в настоящее время в нашей стране около девяноста тысяч человек ожидают появления органов для пересадки, многие из них могут умереть, не дожив до операции.
Ежегодно в мире выполняется сто тысяч трансплантаций органов и более двухсот тысяч – тканей и клеток человека. Лидером среди государств мира по количеству проводимых трансплантаций являются США. В России ежегодно производится четыре-пять трансплантаций сердца, до десяти трансплантаций печени и до восьмисот трансплантаций почек. Этот показатель в сотни раз ниже потребности в данных операциях. Этико-правовые вопросы трансплантации касаются оправданности и неоправданности пересадки жизненно важных органов в клинике, а также проблематики взятия органов у живых людей и трупов. Трансплантация органов зачастую связана с большим риском для жизни пациентов, многие из соответствующих операций до сих пор находятся в категории лечебных экспериментов и не вошли в клиническую практику. Взятие органов у живых людей сопряжено с принципами добровольности и безвозмездности донорства, однако в наши дни соблюдение данных норм поставлено под сомнение. На территории нашей страны действует закон «О трансплантации органов и тканей человека», запрещающий любые формы торговли органами, в том числе и предусматривающие скрытую форму оплаты в виде любых компенсаций и вознаграждений. Живым донором может стать только кровный родственник реципиента. Для получения доказательств родства требуется генетическая экспертиза. Медицинские работники не имеют права участвовать в операции по трансплантации, если они подозревают, что органы были предметом торговой сделки. Взятие органов и тканей у трупов также связано с вопросами этического и правового свойства: в США и странах Европы, где также запрещена торговля человеческими органами, действует принцип «испрошенного согласия», означающий, что без юридически оформленного согласия каждого человека на использование его органов и тканей врач не имеет права производить их изъятие. В России же действует презумпция согласия на изъятие органов и тканей, то есть закон допускает взятие тканей и органов у трупа, если умерший человек или его родственники не выразили на это своего несогласия. Итак, трансплантат может быть получен у живых родственных доноров или доноров-трупов. Основными критериями для подбора трансплантата является соответствие групп крови, генов, отвечающих за развитие иммунитета, а также примерное соответствие веса, возраста и пола донора и реципиента.
– В настоящее время, – вставил Никита, – из-за дефицита человеческих органов требования к донорам пересматриваются. Скажем, при пересадке почек чаще стали рассматриваться в качестве доноров погибающие пациенты пожилого возраста, страдавшие сахарным диабетом и некоторыми другими видами заболеваний. Таких доноров называют маргинальными или донорами расширенных критериев. Наиболее хорошие результаты достигаются при трансплантации органов от живых доноров, однако большинство пациентов, особенно взрослых, не обладают достаточно молодыми и здоровыми родственниками, способными отдать свой орган без ущерба для здоровья. Так что, к сожалению, посмертное донорство органов – единственная возможность обеспечить трансплантационной помощью основное количество пациентов, нуждающихся в ней.