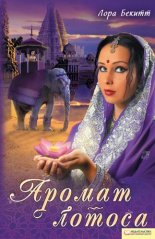Клуб неисправимых оптимистов Генассия Жан-Мишель

Он бросал подружек ради их же будущего счастья.
– Это безнравственно, понимаешь? Мы возводим стены нашей будущей тюрьмы.
Две-три девушки всегда ходили хвостом за Пьером и внимали ему, будто перед ними мессия. Я не сразу понял, что это его «бывшие». Может, они надеялись, что он передумает? Экс-возлюбленные не ревновали к «новенькой», не подозревавшей, что и ее срок отмерен и она очень скоро вольется в их дружные ряды. Пьер считал любовь вздором, брак – низостью, а детей – гадостью. В Китае вершилось грандиозное переустройство – революция, призванная повернуть ход истории, упразднив диктаторские законы рынка и пагубные отношения между мужчинами и женщинами. Изничтожение чувства, своего рода любовное прореживание, уже началось, вековой тирании брака скоро придет конец. Думаю, женщин Пьер любил сильнее, чем революцию, хоть и утверждал обратное.
Пьер был убежден, что большинству людей следует запретить размножаться: слишком уж плачевны результаты, достигнутые родом человеческим. Он надеялся, что научный прогресс и новые достижения биологии положат конец беспорядочному воспроизводству глупцов. Этот аспект своей теории Пьер до конца еще не продумал, но название для нее выбрал – «сенжюстизм», в честь великого революционера[54] и его лозунга: «Никакой свободы врагам свободы». Как следовало из пылких объяснений Пьера, во всех наших бедах виноваты демократия и всеобщее избирательное право, позволившее голосовать идиотам. Пьер хотел заменить республику масс республикой мудрецов. Аннулировать индивидуальные свободы, установить коллективный порядок, чтобы будущее общества определяли самые компетентные и образованные его члены. Пьер рассчитывал, что в Алжире у него будет свободное время и он напишет главный, основополагающий труд на эту тему. И попробует найти альтернативу физическому истреблению оппозиции. Пьер чувствовал, что достичь своих целей, не став новым Сталиным, будет трудновато.
– Возможно, для большинства найдутся другие решения, но некоторых придется уничтожить – в назидание остальным.
Пьер владел уникальной коллекцией альбомов рок-музыки и дисков всех американских певцов. Всех, без исключения. Стоили пластинки безумно дорого, но Пьер никогда не жадничал и давал их слушать всем, кто просил. У Пьера было важное преимущество – он знал английский. Мы наслаждались музыкой и ритмом, схватывая время от времени одно-два слова. Смысл текстов от нас ускользал, но это было не важно. Пьер часто переводил в режиме реального времени, и мы изумлялись:
– Уверен, что он поет о своих синих замшевых ботинках?[55]
Тексты так нас разочаровали, что мы решили больше не слушать переводов. Однажды Пьер сказал, что заполучил новый диск своего любимого певца Джерри Ли Льюиса, и мы пошли к нему домой, чтобы я мог взять пластинку и переписать на магнитофон. Раньше я у Пьера не бывал и думал, что он живет в жалкой комнатенке на восьмом этаже без лифта, а увидел огромную квартиру в доме на набережной Августинцев окнами на Нотр-Дам. Одна только гостиная была размером со всю нашу квартиру. Пьер как ни в чем не бывало передвигался по длинному лабиринту коридоров. Когда я начал восторгаться мебелью, Пьер небрежно бросил:
– Все это не мое, дурачок, квартира принадлежит предкам.
В одной из комнат стоял рояль фирмы «Шиммель», на котором Пьер творил чудеса: он ставил пластинку и виртуозно, в том же темпе, повторял на рояле пассажи Джерри Ли, хотя пел, конечно, хуже. У Пьера был один недостаток: он жаждал научиться играть в настольный футбол. В вечер моей стычки с Франком Пьер угостил меня пивом с лимонадом и захотел сыграть партию. Я составил пару с братом – впервые за все время, Пьер играл против нас, и это была ошибка. Франк следовал правилам, Пьер творил невесть что, используя прутке для «каруселей», что запрещено правилами, и громко хохотал. Я просил его остановиться, он не слушался, я нервничал, а он все сильнее расходился. Никудышный игрок.
Накануне зачисления в часть Пьер устроил отвальную для друзей. Он пригласил и меня, но Франк тут же сказал:
– Родители не позволят.
Я запротестовал – для проформы, но вечером все-таки сделал попытку.
– Мишель, тебе всего двенадцать! – вознегодовала мама.
Пришлось пустить в ход классические аргументы: я буду с Франком, мы вернемся вместе, рано, до полуночи, до одиннадцати, до десяти, только туда и обратно. Ничего не вышло. Папа, который обычно меня поддерживал, подлил масла в огонь, заявив, что ему разрешили выходить одному только в восемнадцать, когда они с Батистом уже работали. Видя, как я раздосадован, он решил меня утешить:
– Потерпи, пока не станешь взрослым.
Я сдался. После ужина все сели смотреть телевизор. Я делал вид, что наслаждаюсь чудовищно пошлой программой варьете. Франк ушел в девять вечера, выслушав мамино напутствие: «Возвращайся пораньше!» Я отправился спать, сделав вид, что обо всем забыл. Мама зашла пожелать мне спокойной ночи. Нерон спал, свернувшись клубком у меня в ногах. Она бросила взгляд на обложку лежавшей на тумбочке книги – это был «Проступок аббата Муре»[56], и я попытался затеять обсуждение, но она чувствовала себя усталой, не помнила, читала ли вообще этот роман, и велела мне засыпать. Я сразу послушался и выключил свет. Мама наградила меня нежным поцелуем. Я долго ждал в темноте, потом оделся и снова лег, напряженно вслушиваясь, но в квартире все было тихо. Нерон смотрел на меня, высокомерно-загадочный, как все коты. Я встал, стараясь не шуметь. Родители спали – я слышал, как храпит отец, на цыпочках прокрался в кухню, осторожно открыл заднюю дверь, вышел, запер ее на ключ, обулся и в полной темноте сбежал вниз, пересек пустой двор и просочился через холл, толкнул дверь подъезда, подождал несколько секунд… и, не оборачиваясь, тронулся в путь.
Ночной Париж. Красивая жизнь. Я чувствовал себя повзрослевшим на десять лет и легким, как ласточка. Меня поразила толпа на улицах и в барах. На бульваре Сен-Мишель было полно народу, выглядели все очень счастливыми. Я боялся, что на меня обратят внимание, «вычислят», но этого не случилось. Я выглядел старше своих лет и вполне мог сойти за студента. Я сунул руку в карман и поднял воротник куртки. На набережной Августинцев с тротуара доносилась музыка. Карл Перкинс устраивал побудку рано отошедшим ко сну парижанам. Я позвонил в дверь. Открыла незнакомая молодая женщина – худенькая, с правильными чертами лица и коротко стриженными темными волосами. Ее карие глаза смотрели удивленно и чуть насмешливо. Она посторонилась, приглашая меня войти, я переступил порог, тут появился Пьер и представил нас:
– Ты знаком с моей сестрой, дурачок?
Я смешался, что-то пробормотал, а Пьер продолжил:
– Сесиль, это Мишель, лучший игрок Левого берега в настольный футбол. Вы похожи, он тоже все время читает. Сесиль пишет диссертацию[57] по филологии. Она обожает Арагона, можешь себе представить? Арагона!
Сесиль весело улыбнулась, развернулась и смешалась с толпой, танцующей рок под «Hound Dog»[58].
– Я не знал, что у тебя есть сестра.
Пьер приобнял меня за плечо и повел знакомиться с гостями, говоря всем, что я его лучший друг. За нами как приклеенные следовали две бывшие подружки Пьера и одна действующая, от него пахло спиртным, он курил купленную в Женеве кубинскую сигару и пускал дым мне в лицо. Пьер жестом пригласил меня устроиться на подлокотнике кресла и выпить виски. Я отказался. Одна из бывших держала в руке бутылку, чтобы обслуживать Пьера по первому его требованию.
– Я очень рад, что ты пришел, Мишель, – сказал Пьер, внезапно став серьезным. – Могу я попросить тебя об услуге?
Я заверил, что сделаю для него все, что угодно. Пьер отправлялся в Алжир надолго и не знал, когда вернется. Не раньше чем через год, а может, даже позже, а отпуска в метрополию отменили. Пьер решил доверить мне свое маленькое сокровище, считая, что только я сумею его сберечь. Я запротестовал – слишком уж велика была ответственность, но Пьер не дал мне уклониться, похлопав ладонью по двум коробкам с пластинками. Пятьдесят два альбома. Импортные, американские, дорогущие. Я онемел.
– Будет обидно, если они все это время пролежат без движения и никто ими не насладится. Я не собираюсь играть в национального героя. Останусь в армии, пока не напишу книгу, и демобилизуюсь при первой возможности! Вернусь через полгода – я уже придумал, как это сделать.
Я предложил составить список доверяемых мне сокровищ. Пьер категорически отказался – он знал названия пластинок наизусть.
– Я смогу одалживать их Франку?
Пьер затянулся сигарой, пожал плечами и повернулся, чтобы уйти, но я повторил свой вопрос, и тогда он сказал:
– Да мне по фигу!
Я поклялся, что Пьер может полностью на меня положиться, а он вдруг спросил:
– Любишь фантастику, дурачок?
Вопрос застал меня врасплох, я не понимал, почему Пьер об этом спрашивает, и покачал головой – нет.
– Читал Брэдбери?
Пришлось сознаться в своем невежестве. Пьер схватил книгу и сунул ее мне в карман:
– Лучший роман из всех, что я читал. Без прикрас.
Я взял в руки книгу и замер, потрясенный увиденным: Сесиль танцевала с Франком под сладенькую мелодию «Platters»[59] и они страстно целовались. Я переводил взгляд с парочки на Пьера, опасаясь, что он кинется на них и набьет Франку морду, но его, судя по всему, это только забавляло. Я запаниковал:
– Не злись на него.
Пьер не обратил внимания на мой лепет и окликнул парня, державшего в руках пластинку:
– Эй, завязывай с фокстротами, надоело! – Потом наставил на меня указательный палец и вынес приговор: – В новом обществе будут казнить тех, кто не танцует рок!
Буйная роковая мелодия нарушила очарование момента. К тому же Франк заметил меня, схватил за руку и начал трясти:
– Черт, что ты тут делаешь?!
Пьер немедленно вступился за меня:
– Не приставай к нему! Сегодня мой день.
Франк был в бешенстве, но отстал. Подошла обеспокоенная Сесиль, и Пьер объяснил ей ситуацию.
– Не знала, что у тебя есть брат, – сказала она, повернувшись к Франку.
Он взял ее за руку и повел танцевать. Пьер допил виски и пробормотал, глядя в пустоту:
– Сегодня люди разговаривают, но не слышат друг друга.
Я присутствовал на первой в жизни вечеринке и чувствовал себя энтомологом, изучающим муравейник. Я даже выпил водки с апельсиновым соком, и у меня закружилась голова, после чего затянулся предложенной соседом сигаретой «Boyard mas»[60] и едва не захлебнулся кашлем. Франк нарочито меня игнорировал, а Сесиль то и дело улыбалась уголками губ. Ближе к полуночи я решил, что пора возвращаться. Вусмерть пьяный Пьер лежал на диванчике, и я не был уверен, что могу забрать пластинки. Он решил сделать широкий жест, однако, протрезвев, скорее всего, передумает.
Я незаметно выскользнул из квартиры, успешно проделал обратный путь, осторожно открыл дверь и замер, прислушиваясь. Все было тихо. Родители спали. Я проник в освещенную лунным светом кухню, держа ботинки в руке, закрыл дверь на ключ, повернулся, чтобы идти в свою комнату, и тут щелкнул выключатель. Передо мной стояла мама. Для начала она отвесила мне такую оплеуху, что я крутанулся вокруг себя, а потом задала самую жестокую трепку в моей жизни. Она, видимо, очень испугалась и потому лупила от души, кричала и била – руками и ногами. Я свернулся клубком, съежился, а мама все никак не могла остановиться и наносила удары даже по голове. Досталось и папе, который пытался нас разнять. Ему пришлось приложить всю свою силу, чтобы она меня не покалечила. Потом у нее началась истерика.
– Подумай о соседях! – выкрикнул папа, и она тут же затихла.
Папа втолкнул меня в комнату. Дверь захлопнулась. Мама стенала и жаловалась на неблагодарность мужчин вообще и собственных сыновей в частности. Папа бубнил, что ничего страшного не случилось. Наконец они угомонились. Сердце у меня колотилось как сумасшедшее, щеки горели, задница болела. Я сидел в потемках, пытаясь отдышаться, сна не было ни в одном глазу. Взбучка и суровые санкции – я не сомневался, что они последуют! – не заставили меня жалеть о сегодняшней выходке. Я вытащил из кармана книгу – прощальный подарок Пьера, зажег лампу и прочел название: «451о по Фаренгейту». Томик был не слишком толстый и, к счастью, не пострадал от припадка материнского гнева. Многие места были подчеркнуты рукой Пьера. Я начал читать, выбрав отрывок наугад:
«Девять дней из десяти дети проводят в школе. Мне с ними приходится бывать только три дня в месяц, когда они дома. Но и это ничего. Я их загоняю в гостиную, включаю стены – и все. Как при стирке белья. Вы закладываете белье в машину и захлопываете крышку… Лучше все хранить в голове, где никто ничего не увидит, ничего не заподозрит… В штате Мэриленд есть городок с населением всего в двадцать семь человек, так что вряд ли туда станут бросать бомбы, в этом городке у нас хранится полное собрание трудов Бертрана Рассела…»[61]
Некоторые параграфы Пьер снабдил примечаниями. Почерк был мелкий и неразборчивый, если не считать пометки к третьей части: «Все мы – Монтэги?!»[62]
6
Следующие недели выдались трудными. Я стал кем-то вроде зачумленного, на которого все указывают пальцем. Семья и соседи считали меня малолетним мерзавцем, добрая, приветливая Мария – богохульником, осквернившим распятие. Консьержка мамаша Бурдон объявила меня пропащим, а ее муж – мелкая сошка в парижской мэрии – взял моду поучать, даже в мамином присутствии:
– Вытирайте ноги о половик, молодой человек, слдует уважать чужой труд!
– Мсье Бурдон прав, Мишель, – подхватывала мама, – ты понятия не имеешь об уважении.
Колкости старого пужадиста так меня бесили, что свалившиеся на мою голову неприятности отступали на второй план. И я придумал отличный способ мщения: выходя на улицу, не пропускал ни одной кучки собачьего дерьма, а потом тщательно вытирал ноги о коврик Бурдонов. Меня лишили «четвергового» телевизора – я должен был сидеть в своей комнате и заниматься. Мария получила приказ звонить маме при первых признаках ослушания. Меня все время бранили, а я усугублял свое положение, отказываясь признать вину и быть тише воды ниже травы, за что лишился всех отвоеванных у взрослых прав и свобод. Мама снова провожала меня по утрам в лицей и забирала после занятий. Я запаниковал и попытался найти защиту у папы. Он долго колебался, но в конце концов заявил – не вполне, впрочем, убежденно:
– Будет так, и никак иначе.
Закручивать гайки мама решила собственноручно. Она снова взяла дело моего образования в свои руки, но не учла, что это процесс двусторонний. Я же твердо вознамерился ни в чем не участвовать. Папа сказал, что может забирать меня после занятий – он часто освобождался раньше мамы, – получил категорический отказ и отступился. Франк попытался встать на мою защиту, но мама резко его осадила. Она не любила друзей Франка и считала, что в случившемся есть доля его вины. Мама всегда мило улыбалась, но домом управляла как предприятием клана Делоне и не терпела ослушания. Сначала я надеялся, что распорядок дня не позволит ей успевать к концу уроков в лицее, но она договорилась с директором, что меня будут каждый вечер оставлять в здании до семи вечера. Прощай, футбол, прощайте, друзья. Заниматься усерднее я не стал, а появившееся время использовал для чтения. Пришлось, правда, отказаться от муниципальной библиотеки и брать книги в лицейской – скучной, составленной исключительно из томов, которыми учеников награждали в конце года за успехи в учебе.
Книга Пьера захватила меня. Начитавшись Брэдбери, я решил выбрать силовой вариант разрешения конфликта. Человек должен уметь сопротивляться, не капитулируя и не уступая, но принимая за должное диктат силы. Решение представлялось очевидным и простым. Я окажу пассивное сопротивление. Не буду с ними разговаривать. Ни с кем. Так я их накажу.
Я укрылся в раковине молчания и, если кто-то ко мне обращался, бурчал в ответ что-нибудь нечленораздельное. Каждый день мама заезжала в лицей Генриха IV, чтобы забрать меня после занятий. Я садился в машину и всю дорогу демонстративно игнорировал все ее вопросы. Гнетущая тишина согревала мне душу. За столом я не поднимал глаз от тарелки, наслаждаясь возникшей – по моей вине! – неловкостью. Доев, я молча вставал, отправлялся к себе и больше не показывался.
Вначале я с ними играл, а они и не догадывались. Как долго можно жить, не разговаривая с родителями? «Я сумею продержаться долго, они сдадутся первыми», – рассуждал я, храня молчание и радуясь новообретенной власти. Никогда не думал, что тишина способна вызывать такое беспокойство. Первым пострадал Нерон – ему не хватало общения, и он, к вящей радости Жюльетты, ретировался в ее комнату. Через две недели я констатировал у себя некоторые признаки усталости. Папа с мамой ругались из-за меня, но никогда – в моем присутствии. Я упивался их жаркими спорами. Мама оказалась не готова к такой подрывной тактике. Я игнорировал ее намеки, тайные знаки и попытки примирения, наблюдал, как родители суетятся, разглядывают меня исподтишка, говорят обо мне как о больном. «Что, если причина его состояния не физического свойства?» – «Не показать ли его психологу?» Я не смог одурачить только Франка, и он давил на меня, требовал «перестать придуриваться».
Дедуля Делоне призвал на помощь одного из своих друзей, профессора медицины. Он пришел на воскресный обед и два часа собирал «удаленный анамнез». Жюльетта донесла, что я показался ему усталым и подавленным, и он порекомендовал занятия спортом и курс витаминов. Каждое утро мне стали подавать на завтрак свежевыжатый апельсиновый сок. Я наотрез отказался от предложения записаться в футбольную команду, а на любой вопрос пожимал плечами и уходил к себе в комнату читать.
Иногда ко мне присоединялась Жюльетта. Она садилась на кровать, Нерон пристраивался между нами, и сестра начинала описывать свою жизнь во всех подробностях. Я не отрывался от чтения и не слушал, зато Нерон внимал ей со всем кошачьим вниманием. Через час или два я говорил:
– Пора спать, Жюльетта.
Она умолкала, целовала меня в щеку и объявляла:
– Здорово бывает иногда вот так поболтать.
Однажды за ужином мама предложила сходить в воскресенье вечером в кино на «Форт Аламо»[63] с Джоном Уэйном. Об этом фильме говорили все вокруг, и мне ужасно хотелось его посмотреть. За много месяцев до выхода картины на экран я увидел рекламные афиши, влюбился в Дэви Крокета, и папа подарил мне шапку с лисьим хвостом из искусственного меха. Мама знала, как трудно мне будет устоять перед таким искушением. Папа притворился удивленным, воскликнул: «Потрясающая идея!» – предложил пообедать перед сеансом в «Гран Контуар» и пойти в кинотеатр на бульварах – громадный экран подарит незабываемые впечатления от фильма. Родители смотрели на меня и ждали ответа, я держал паузу, потом встал и молча вышел из-за стола. В дверях меня посетило вдохновение: я обернулся, открыл рот, но ничего не сказал, чтобы продлить удовольствие. Согласись я на этот поход в кино, мы бы помирились и получили удовольствие от фильма, но я, как истинный мазохист и любитель провокаций, решил довести ситуацию до крайности:
– На будущий год я хотел бы стать пансионером.
Папа был поражен, у мамы рот приоткрылся от непонимания, даже Франк выглядел удивленным. Эффектная концовка, ничего не скажешь… Ответ родителей значения не имел, даже если бы мне с ходу дали согласие. Они смотрели друг на друга, не зная, как реагировать, потом мама спросила:
– Почему?
Я выдержал драматическую паузу и сказал:
– Чтобы больше вас не видеть.
Я ушел к себе – и не увидел «Форт Аламо» на панорамном экране. Утешало одно: родители тоже лишились этого удовольствия. Итак, я сидел и терзался сомнениями, готовый сдаться и молить о мире, но услышал, что родители спорят на повышенных тонах, только что не кричат. Раньше до такого не доходило. Потом папа удалился, изо всех сил шваркнув дверью, а мама вошла ко мне в комнату. Я сделал вид, что погружен в чтение «Удела человеческого»[64]. Щеки у меня горели, сердце колотилось, я всеми силами пытался скрыть смятение. Мама присела на краешек кровати. Она смотрела на меня и молчала, а я уставился в книгу – и не мог разобрать ни строчки.
– Нам нужно поговорить, Мишель.
Я поднял голову:
– Почему вы не в кино?
Мама была в полном замешательстве. Она смотрела на меня, пытаясь понять, что происходит, но логического объяснения найти не могла, ибо я действовал по наитию.
– Ты меня пугаешь. Продолжишь в том же духе – пропадешь. Загубишь свою жизнь. И я ничем не смогу тебе помочь.
Я оторвался от книги, сделав удивленное лицо, как будто только что ее заметил.
– Ты всерьез говорил о пансионе?
Я кивнул, мама покачала головой, с выражением горестного недоумения на лице:
– Что с тобой, Мишель?
Я с трудом удержался от смеха, мне хотелось сказать, что это была глупая шутка, что я так не думаю, но меня как будто черт под руку толкал.
– Предпочитаю отправиться в пансион. Так будет лучше для всех, разве нет?
Повернувшись к маме спиной и снова уткнувшись в книгу, я почувствовал, что она встала, но из комнаты не вышла, словно чего-то ждала. Я обернулся, мы встретились взглядом, но не произнесли ни слова. Я инстинктивно понимал: тот, кто откроет рот первым, проиграет. Я смотрел на маму без высокомерия и дерзости. В столовой зазвонил телефон, но трубку никто не снял. Они ушли. Мы остались вдвоем. Телефон все звонил и звонил, а мы смотрели друг на друга и молчали. Наконец звонок умолк, и в квартире снова стало тихо. Мама занесла руку, я заметил, что пальцы у нее дрожат, но не шевельнулся. Она ударила со всего размаха, от души, и… выместила гнев на Мальро. Книга отлетела к стене. Мама потерла руку и вышла. Хлопнула входная дверь. Я остался один в пустой квартире. Снова зазвонил телефон, но я не взял трубку. В тот вечер Нерон решил, что наша разлука затянулась, и вернулся в мою комнату, на свое место в ногах кровати.
На следующее утро Мария объявила, что в лицей я отправлюсь один, не «под конвоем», и мама больше не будет забирать меня после занятий. Днем меня вызвал к себе Шерлок, наш главный надзиратель. Этот сухой угловатый человек был от природы наделен такой властностью, что в его присутствии все невольно умолкали, переставали носиться по коридорам, а встретившись с ним взглядом, почтительно кивали. Он умел так посмотреть на любого ученика, что тот начинал чувствовать себя виноватым, хотя никто не слышал, чтобы Шерлок хоть раз повысил голос или накричал на провинившегося. Пьер Вермон очень его любил и называл одним из самых образованных людей на свете, ученым-философом, отказавшимся от преподавания ради административной работы. Шерлок вызвал меня, чтобы взглянуть на мой пропуск, он изучил его с явным недоверием, переводя взгляд с разложенных на столе бумаг из личного дела на мое лицо.
– Ваши результаты далеко не блестящи, Марини, – произнес он наконец. – Особенно по математике. Если не одумаетесь, в следующий класс не перейдете. У вас остался последний триместр, чтобы исправить положение. Было бы досадно потерять имеющийся в запасе год.
Шерлок разорвал желтую карточку, подписал бледно-зеленую – это было разрешение на свободный выход из лицея после окончания занятий, – прикрепил мою фотографию, поставил печать и протянул мне пропуск со строгим напутствием:
– Прекратите шляться по бистро! Вам ясно?
В назначенный час никто за мной не пришел. Моим первым побуждением было кинуться в магазин и просить у мамы прощения, сказать, что я сожалею о том, как глупо себя вел, но потом решил все-таки отправиться домой. Николя удивился, когда я отказался пойти в «Бальто» или «Нарваль» поиграть в футбол. Я не стал посвящать его в беседу с Шерлоком, просто сказал, что должен немедленно засесть за учебники, иначе… Николя был сугубым реалистом и изложил свое мнение прямо и откровенно:
– Ты и математика несовместимы. Не морочь себе голову, на свете полно профессий, где можно обойтись и без нее.
Если Бог существует, Он знает, что я попытался. Приложил массу усилий. Потратил уйму времени. Франк тоже поучаствовал. Он испробовал все способы, чтобы вдолбить мне знания по чертовой программе. Ничего не вышло. В моем мозгу существовал не антиматематический блок – пустота. Мне казалось, что я начинаю что-то понимать, что лед тронулся, но, как только Франк переставал помогать, я увязал.
– Это совсем не трудно, – упорствовал брат. – Успокойся, возьми себя в руки. Любой болван способен решить эти примеры! У тебя должно получиться – и получится!
Мы занимались вечерами, по субботам, воскресеньям, в каникулы, но не преуспели. Когда Франк объяснял теорему, все казалось простым и ясным, но доказать ее самостоятельно я не мог. Два приятеля Франка тоже попытались, но вынуждены были признать очевидное:
– Не переживай. Требуется время и упорный труд.
Наступил день, когда сдался и Франк. Ему самому нужно было готовиться к экзаменам, и я не обиделся. Он сделал все, что брат может сделать для брата. Мы с математикой оказались несовместимы. Тут уж никто не поможет. Не в первый и не в последний раз в истории произошла необъяснимая вещь. Я предпочитал не думать о том, что случится, если меня оставят на второй год. Поставил учебник математики на полку и присоединился к Николя. Будь что будет. Мы снова играли в настольный футбол. Терпели поражения. Выигрывали. Такова жизнь.
Как-то раз вечером Николя захотелось сменить обстановку, и мы отправились в «Нарваль» на площади Мобер. Я не был там три месяца с момента отъезда Пьера. Мне не хотелось столкнуться с Франком – он считал, что я корплю над Евклидом, гармонической четверкой прямых и уравнениями второй степени. Заметив нас с Николя у стола, он произнес многозначительным тоном: «Вот, значит, как…» Я притворился глухим и выместил досаду на соперниках. Вокруг стола толпились зрители. Во время одной из смен состава я украдкой взглянул на стол, за которым играл Франк, и обнаружил, что он ушел, даже не простившись. Кто-то положил мне руку на плечо. Я обернулся и увидел улыбающееся лицо Сесиль.
– Куда ты исчез?
Я понял, что Франк не посвятил ее в семейные неурядицы, поэтому не стал распространяться о недавних событиях и ответил уклончиво:
– У меня было… много работы.
Глаза Сесиль смеялись. Я «поплыл», вспотел и впервые в жизни пропустил свою очередь играть. Николя, получивший нового партнера, наградил меня изумленно-недоверчивым взглядом, чем окончательно вывел из равновесия.
– Что будешь пить?
Мы пошли к стойке и заказали кофе с молоком.
– Не забыл, что Пьер оставил тебе пластинки? Сама я их к тебе не потащу.
Я хотел отказаться, привел уйму доводов, но Сесиль ничего не желала слушать. Я пообещал, что зайду как-нибудь в субботу и все заберу. На прощание она меня поцеловала, окутав легким лимонным ароматом духов. В ту ночь я плохо спал. Мария сказала, что не следует так поздно пить кофе с молоком.
7
В какой-то момент я почувствовал, что ситуация изменилась и мне следует быть начеку. Мама выглядела расстроенной и отстраненной из-за налоговой проверки: въедливый инспектор задавал коварные вопросы, на которые у нее не было ответов. Она тратила все силы и время на ликвидацию прорыва, опасаясь суровых санкций и штрафа. Папа исполнял функции коммерческого директора и ничего не понимал в управлении. Мама не упускала случая напомнить, что не может на него рассчитывать и вынуждена одна тянуть всю неблагодарную работу. Она часами говорила по телефону с Морисом, выслушивая его полезные советы. В День матери папа приготовил для нее огромный букет из тридцати девяти красных роз и зарезервировал столик в «Ла Куполь». Незадолго до полудня мама заскочила домой, я ее поздравил и показал папин букет. Она едва взглянула и поспешила вернуться в магазин, к аудитору, чтобы уладить детали очередной встречи с налоговым инспектором. Она даже не поблагодарила папу за цветы, а он сделал вид, что ничего не заметил, только назвал извергами чиновников-садистов, которые заставляют матерей семейств работать по воскресеньям. Он поставил букет в вазу прямо в упаковке, и мы отправились в ресторан, хотя настроение было безнадежно испорчено и аппетит пропал. Вечером мама так и не прикоснулась к цветам, даже целлофан не сняла. Через два дня букет завял, и Мария его выбросила.
В тот праздничный день я хотел сообщить маме, что перешел в четвертый класс, разумеется умолчав о вкладе в мой «успех» Николя. Я не обманывался на свой счет, но уговаривал себя, что важен только результат. Рассказать не получилось – ни тогда, ни потом. Мама ни о чем не спросила, она и мысли не допускала, что может быть иначе, а вот папа был горд и счастлив – сам он окончил только начальную школу. Он так радостно делился хорошей новостью с каждым соседом, как будто меня приняли в Политехническую школу, и решил сводить нас в кино. Мы с Жюльеттой хотели посмотреть «Путешествие на воздушном шаре», папа предпочитал «Бен Гура», но на него билетов не оказалось, и он смирился с «Путешествием». Очередь в кассы была длиннющая, папа попытался пролезть к окошку, но бдительные граждане оттерли его, да еще и обозвали нахалом. Мы дошли по бульварам до кинотеатра, где давали «На последнем дыхании»[65]. Франк восторгался этим фильмом, но желающих попасть на сеанс было совсем мало, и, хотя кассирша заявила папе, что «эта картина не для детей», он не внял ее совету. Их с Жюльеттой фильм разочаровал, и мы ушли, не досмотрев.
– Как Франку могла понравиться такая мура? – негодовал папа.
Я прикинулся дурачком, хотя знал ответ – меня фильм тоже покорил.
После сдачи экзаменов на степень бакалавра мы с Николя обрели желанную свободу и дни напролет торчали в Люксембургском саду – читали, били баклуши, вылавливали потерпевшие кораблекрушение кораблики из фонтана, а в конце дня отправлялись в «Бальто» играть в настольный футбол. Однажды я заметил в глубине ресторана, за банкетками, на которых обычно сидели влюбленные парочки, дверь, замаскированную зеленой плюшевой гардиной. Заветный угол, куда обычным посетителям хода не было. За таинственный полог входили только мужчины странного вида – и никогда женщины. Меня снедало любопытство, но ни один из футбольных партнеров ничего не знал, а папаша Маркюзо произнес обескуражившую меня фразу: «Ты еще мал для этой комнаты». Жаки носил туда напитки, но на все мои вопросы только плечами пожимал, а Николя досадливо отмахивался:
– И что ты прицепился к дурацкой двери?
– Эй, мелкота, играть будем? – надменно вопрошал Сами, и жизнь возвращалась в привычную колею.
8
В конце июня случилось то, чего я так опасался: мы с Сесиль столкнулись нос к носу на бульваре Сен-Мишель. Избежать встречи было невозможно. Сесиль бросилась ко мне, она была возбуждена, говорила, не давая вставить ни слова в ответ, обрывала фразы, чем напомнила мне Пьера. Просьбу проводить ее до Сорбонны она произнесла не терпящим возражений тоном, подхватила меня под руку и увлекла за собой. Я был ошеломлен количеством студентов на лестницах факультета, здесь стоял такой гул, что приходилось кричать. Сесиль запаниковала, готовая сбежать, сжала мою руку, и мы поднялись на второй этаж. Она была ужасно бледная, но двигалась через толпу с гордо поднятой головой.
– Иди посмотри, Мишель, прошу тебя, – жалобно попросила она.
Перед стендами со списками принятых толпились абитуриенты. Одни победно вскидывали руку, другие сокрушенно качали головой, девушки плакали. Я пролез к доске и начал искать фамилию Сесиль, толкаясь локтями и плечами, чтобы меня не оттеснили, совершенно уверенный в успехе, и наконец нашел, что искал: «Сесиль Вермон: принята, оценка „достаточно хорошо“». Я не без труда выбрался из плотного кольца победителей и проигравших, увидел, что Сесиль стоит с закрытыми глазами, прокричал:
– Тебя приняли! – и кинулся к ней.
Мы крепко обнялись. Я чувствовал на шее горячее дыхание Сесиль и аромат ее тела. Мне показалось, что наше объятие длилось вечность, даже голова закружилась. Никакая, даже самая бурная радость по поводу успешной сдачи экзаменов не объясняет столь долгого, на несколько секунд дольше положенного, объятия… Я прижимал Сесиль к себе, наслаждаясь ее близостью и чувствуя невероятную нежность. Она взяла мое лицо в ладони и прошептала:
– Спасибо, маленький братец, спасибо тебе.
В тот день она назвала меня так впервые, чем привела в совершенный восторг. Поцелуй в щеку заставил мое сердце колотиться как бешеное. Мы шли к выходу с факультета, и окрыленная успехом Сесиль смеялась, пританцовывала, целовала всех подряд, утешала неудачников. Она представляла меня окружающим по имени. У многих на лице появлялось недоуменное выражение, они смотрели нам вслед, но мне было все равно – я чувствовал себя легким, как воробышек, и не заметил, как мы оказались на площади. Собиравшиеся группками абитуриенты обсуждали результаты. Сесиль заметила Франка, он все понял по ее счастливому лицу, протянул к ней руки, закружил. Потом мы зашли в кафе, где было не протолкнуться от посетителей, и выпили за успех Сесиль. Она без умолку говорила об экзаменах и тех скользких местах, которых ей удалось избежать. Перебить Сесиль было невозможно, да мы этого и не хотели. Коротко стриженная, по-мальчишечьи угловатая, она очень напоминала нам Джин Сиберг[66], была такой же красивой, яркой, грациозной и хрупкой, как кинозвезда, только с темными волосами и карими глазами.
Сесиль решила, что я должен немедленно забрать оставленные мне Пьером пластинки, не пожелала слушать наши с Франком возражения, и мы оказались в огромной квартире на набережной Августинцев, которая могла бы показаться мрачной, не цари здесь радующий душу и глаз беспорядок. Сесиль не делала уборки со дня прощальной вечеринки Пьера: пустые бутылки, стопки книг на полу, окурки в пепельнице, грязные тарелки, картины, составленные в ряд у стены, странным образом оживляли пустое и слишком просторное для одного человека жилище. Сесиль освободила диван, сбросив одежду на пол, и мы сели. Она проверяла шкафы и чертыхалась: «Ну что за бардак!» – возвращалась в комнату и снова исчезала. Франк обнял меня за плечи:
– Я слышал, фильм вам не понравился?
– Мне очень понравился. Но не папе с Жюльеттой. Они не поняли, что ты в нем нашел.
– …Я люблю девушку с прелестным затылком, красивой грудью, чудесным голосом, изящными запястьями, дивным лбом и классными коленками… – задумчиво произнес Франк, криво улыбнулся, и я вдруг заметил, что глаза у него на мокром месте.
Появилась Сесиль с коробкой пластинок. Их было слишком много, я колебался, не зная, могу ли взять все, и Сесиль сочла нужным уточнить:
– Пьер не дарит их тебе – дает попользоваться.
Видя, что не убедила меня, она взяла из пачки перетянутых резинкой писем последний конверт, открыла его и прочла:
Милая моя Сесиль!
Каникулы продолжаются. Погода стоит идеальная. Ночью мы мерзнем на нашем посту в Сук-Ахрасе. Линия Мориса оказалась дырявой, как сито, и ее продублировали линией Шалля. Сделано на совесть – проволока на всем протяжении под током в пять тысяч вольт, а в отдельных местах – до тридцати тысяч. Лучше не трогать. Я работаю на пару с парнем из «Электрисите де Франс», он здорово разбирается в высоком напряжении, так что, если после армии не попаду на госслужбу, пойду по электрической части. Каким бы невероятным это ни выглядело, французская армия извлекла уроки из прошлых ошибок. С тяжеловесными «непреодолимыми» укреплениями в стиле линии Мажино покончено, линия Шалля – обычное заграждение, главное ее назначение – обнаруживать прорывы, и функционирует она дьявольски быстро и четко. Наша система позволяет определить, где произошел обрыв, послать туда наряд и предотвратить проникновение со стороны Туниса. Как только поступает сигнал тревоги, мы запускаем осветительные ракеты. Благодаря радарам и колючей проволоке на нашем участке стало даже слишком спокойно. Уже много недель ничего не происходит, как в «Пустыне Тартари»[67]. Я чувствую себя лейтенантом Дрого, только поговорить не с кем. Буццати написал потрясающую книгу, но в его форте нереальное число интеллектуалов на метр квадратный. У нас здесь настоящая жизнь, тупиц – море. Мы все время смотрим в направлении «перед собой». Они там. Вот только неизвестно, где именно. В пределах видимости одни кусты и камни. Возможно, они где-то в другом месте. Мы целыми днями ждем появления типов из Фронта национального освобождения Алжира и умираем от скуки. Я часами наблюдаю за радарами, но пока что все сигналы тревоги оказывались ложными – «прорывались» к нам только кабаны. Тоже неплохо, отличная добавка к рациону… Больше всего меня достает то обстоятельство, что я меняю убеждения. Я был уверен, что мы мерзавцы, считал, что народ против нас и жаждет независимости. Каждый излагает собственную теорию, взгромоздившись на трибуну. Видела бы ты, что творится в деревнях! Армия трудится не покладая рук, так что не верь идиотским слухам. Теперь я начал понимать, что к чему. Выбор приходится делать между плохими и очень плохими решениями. Мало кто наплел в этой жизни так много глупостей, как я. Разве что Франк. Но это было в Париже, в другой жизни. Здесь все иначе. Это не треп в бистро, а реальное дело, которое не сделаешь, не запачкав рук. Я никак не могу договориться сам с собой, иногда думаю, какого черта мы здесь делаем, но понимаю: если уйдем, начнется та еще заваруха. Наш противник настроен более чем серьезно, но на открытое столкновение не решается – знает, что мы отлично вооружены.
Сенжюстизм обретает форму. Я исписал две тетради – нашел их в школе по соседству, которая вот уже год как закрыта. Моя убежденность в том, что демократия – чистой воды жульничество, крепнет день ото дня. Придется разрушить все до основания без лишних слов, невзирая на лица. Личные свободы – обман и химеры. Зачем человеку свобода слова, если он получает нищенскую зарплату и жизнь у него собачья? Ты самовыражаешься, ты наделен так называемыми фундаментальными свободами, но твое существование ни к черту не годится. В мире происходили войны и революции. Менялись правительства. Но ничего не меняется. Богатые остаются богатыми, бедные – бедными. Эксплуатируют всегда одних и тех же. Единственная необходимая гражданам свобода – это свобода экономическая. Нужно вернуться к фундаментальному принципу: «Каждому по способностям, каждому – по потребностям». Сегодня, как никогда раньше, единственная реальная власть есть власть экономическая, ее нам и нужно вернуть себе. Силой. И ничего, что снова придется физически устранять представителей старого режима. Мы останемся пустыми болтунами, если не совершим новую революцию, не казним тех, кто узурпировал экономическую власть. Выборы – ловушка для тупиц.
Мне не терпится узнать, как ты сдала экзамены. Уверен, у тебя все получилось в лучшем виде. Как всегда. Ты должна научиться верить в себя. Напиши, как только узнаешь результат. Этот маленький дурачок Мишель забрал пластинки? Не понимаю, почему он тянет. Если не хочет, тем хуже для него, но никому, кроме Франка, ничего не отдавай. И кстати, пластинки – не подарок, я их просто одалживаю, на время…
– Он называет тебя «маленьким дурачком», но не со зла, ты ведь понимаешь? – решила подбодрить меня Сесиль.
Брать все пластинки я не стал – отобрал тридцать девять штук. Составлять список Сесиль не пожелала:
– Не морочь себе голову, сам отдашь все, когда Пьер вернется. Это не подарок.
Еще шестнадцать пластинок из собрания Пьера я мог в любой момент обменять на те, что прослушал. Письмо произвело на Франка неприятное впечатление, он явно расстроился и решил поучить меня жить:
– Ты бы лучше математикой занимался, чем слушать рок. Куда подевалась твоя решимость? Испарилась? Ты отступился? На будущий год завалишь экзамены и будешь жалеть всю жизнь. Пьер прав, ты просто маленький дурачок.
Я с трудом сдержался, чтобы не накинуться на него. Сесиль встала на мою защиту. У нас с ней было общее свойство – аллергия на математику. Неискоренимая заторможенность и глубинное непонимание. Пьер бился над проблемой годами. Испробовал все средства и способы. Орал. Тряс сестру как грушу. Тщетно. Сесиль «сорвалась с крючка», подавшись в гуманитарии.
– Ты этого хочешь? – не успокаивался Франк. – Будешь филологом.
Сесиль бросила на него не слишком приветливый взгляд. Они поругались – из-за меня, математики, гуманитарного диплома. Спор начался на повышенных тонах и очень скоро перешел в крик. Они лаялись, как цепные псы, потом Франк ушел, хлопнув дверью. Сесиль была обижена и расстроена. Я тоже. Мы сидели на диване и молчали. Думали, что Франк вернется, но ошиблись.
– Почему все так? – прошептала она.
– Не злись на Франка. Мой брат бывает слишком прямолинейным, может много чего наговорить, но он так не думает.
– Я не о нем, маленький братец. Я о математике. Мы совсем ничего не соображаем. Это ненормально.
– Такова наша природа. Ничего постыдного тут нет. Почти все математики ни фига не смыслят в литературе и гордятся этим.
Мои объяснения не убедили Сесиль. Она уперлась – и ни с места. Мои доводы казались неубедительными мне самому. Пришлось отступиться. У нас была общая проблема, ее следовало решать совместными усилиями. Раз человек, способный к математике, не может научить тупицу, возможно, это получится у двух болванов, если они будут учить друг друга. Именно такое решение предложила Сесиль. Она не могла смириться с провалом. Я сомневался – хромой, выходящий на беговую дорожку на двух костылях, не станет лидером, – но сопротивляться не мог.
– Отличная идея, – сказал я, покривив душой, и принял предложение вместе заниматься математикой.
Когда я принес пластинки домой, мне устроили допрос с пристрастием. Мама хотела знать, откуда они взялись, кто и с какой стати мне их дал, ведь ей никто никогда ничего просто так не дарил – ни пластинок, ни чего-то другого. Франку удалось ее успокоить. Мама приняла решение: слушать пластинки я могу, но приглушив звук, чтобы не беспокоить соседей. В отношении рок-н-ролла это было чистой воды извращением. Я много раз брал проигрыватель и пластинки и шел к Николя. Он жил в новом доме, и мы могли наслаждаться песнями Элвиса и Джерри Ли Льюиса, врубая звук на полную мощность, до гула в ушах. Уходя домой, я всегда забирал пластинки с собой, помня данное Пьеру обещание. Потом мне улыбнулась удача: соседи снизу переехали и их квартира несколько месяцев пустовала. Теперь я мог слушать любимую музыку «по-человечески», то есть очень громко, а перед возвращением мамы убавлял звук. Рок-н-ролл действовал на меня как глоток кислорода в удушливой монастырской атмосфере. Так мы и жили. Я часами лежал на кровати, гоняя пластинки по кругу, слов не понимал, но знал их наизусть. Мария на музыку не реагировала. Жюльетта сочла своим долгом высказаться. Она обожала варьете и Жильбера Беко, но в конце концов сдалась и влюбилась в рок. Он оказывал на мою сестру волшебное действие – она умолкала. Мы слушали пластинки на предельной громкости – только так эту музыку и можно слушать. Если раздавался звонок в дверь, мы убирали звук, и соседка с пятого этажа, явившаяся узнать, не от нас ли доносится «этот ужас», уходила ни с чем – в квартире царила полная тишина.
Жюльетта проявила себя неожиданным образом. Выяснилось, что в искусстве вранья она превосходит даже меня, хотя я в этом деле был мастером. Она выглядела такой невинно-простодушной, что заподозрить ее в нечестном поступке было бы верхом нелепости. Жюльетта делала изумленное лицо, глаза у нее округлялись, губы приоткрывались, и она начинала жаловаться на адский шум. Никто на свете никогда бы не усомнился в правдивости ангельского создания. Каждое воскресенье Жюльетта ходила к мессе, исповедовалась по четвергам, была любимицей кюре. Я не удержался и поддел ее:
– А что говорит отец Страно? Ты каешься во вранье?
В ответ она только загадочно улыбалась. У Бардона и некоторых соседей были подозрения на мой счет, и Жюльетте пришла в голову гениальная идея. В мое отсутствие она включала проигрыватель на полную громкость, а я шел к Бардону жаловаться: «Как же этот грохот мешает заниматься!»
– Просто немыслимо! Даже дома нет ни минуты покоя.
Жюльетта не раз предупреждала меня о внезапном возвращении нашей матери. Так продолжалось довольно долго. Странно, но этот невинный обман еще больше отдалил нас друг от друга. Моя ложь не имела значения – мужчина должен уметь устраиваться, чтобы выжить, но тот факт, что маленькая девочка – воплощенная чистота – может так нагло притворяться, внушил мне сомнения насчет человеческой души. Если Жюльетта способна врать так ужасающе искренне, что даже я хочу ей верить, откуда мне знать, когда она говорит правду? Кому вообще можно доверять? Лично я больше не мог доверять никому. Ужасное открытие…
9
В «Бальто» было полно народу. Вокруг футбольного стола собралось человек десять. Я был в блестящей форме. Соперники сменяли друг друга, но были бессильны. Мы по всегдашней привычке играли, не поднимая глаз, поэтому сначала я заметил кожаные браслеты, потом услышал хриплый голос:
– Привет, мелкота. Делаем успехи?
Саме бросил жетон на сукно. Вид у него был до ужаса самодовольный. Мы с Николя переглянулись, полные решимости разгромить его в пух и прах. Рисковым парнем был сейчас не он, и мы собирались это доказать, я прешел в полузащиту. Николя сыграл лучшую партию в своей жизни. Он отбивал почти все удары, блокировал Саме, чем ужасно его нервировал, забил четыре гола с дальней позиции и три – от борта. А я вот не блистал, Саме предугадывал все мои действия. Я забил один жалкий гол в тот момент, когда он только взялся за ручки. Гол был на грани фола, но Саме великодушно не стал его оспаривать. При матчболе он сыграл так стремительно, что мы не успели заметить, как белый шарик влетел в ворота. Раздался металлический звук – щелк! – Саме произнес: «Бывайте, олухи!» – и исчез. Николя ужасно на меня разозлился. Мало того что Саме задал нам трепку, как жалким новичкам, так теперь еще и придется почти час ждать следующего подхода. Он предложил сыграть партию в бильярд, приблизился к столу, а я выскочил на террасу, чтобы прийти в себя, остыть и почитать.
Прямо напротив меня, в глубине, за банкетками, находилась заветная дверь за зеленой портьерой. Оттуда вышел Жаки с подносом пустой посуды. Я отодвинулся еще дальше в угол, и он прошел мимо, не заметив меня. Плохо выбритый человек в поношенном грязном плаще исчез за дверью, и я удивился: почему он так странно одет, ведь дождя не было много недель? Движимый любопытством, я отодвинул портьеру и увидел сделанную от руки надпись: «Клуб неисправимых оптимистов». Замирая от волнения, я сделал шаг вперед и изумился, поняв, что попал в шахматный клуб. Человек десять мужчин были заняты игрой, с полдюжины других наблюдали. Одни сидели, другие стояли. Остальные разговаривали тихими голосами. Неоновые лампы освещали комнату с двумя окнами на бульвар Распай. Папаша Маркюзо использовал это помещение как склад, он держал здесь столики, складные стулья, зонтики, ободранные банкетки и ящики из-под бутылок. Двое мужчин сидели в креслах и читали иностранные газеты. Никто не обратил на меня внимания.
Удивил меня не сам клуб, а сидевшие за шахматной доской в прокуренной задней комнате популярного бистро Жан-Поль Сартр и Жозеф Кессель. Я видел их по телевизору и знал в лицо. Настоящие знаменитости! Я был потрясен. Сартр и Кессель смеялись и шутили, как школьники. Я потом часто спрашивал себя, что могло их так рассмешить, но так и не нашел ответа на свой вопрос. Имре, один из столпов клуба, всегда говорил, что Сартр – полный профан в шахматах, что ужасно веселило остальных членов клуба. Не помню, сколько времени я стоял в дверях и разглядывал людей в комнате. Ни один из них даже не посмотрел в мою сторону. Потом за мной пришел Николя:
– Наша очередь.
Он не знал о существовании шахматного клуба, да и знать не хотел. Имена Кесселя и Сартра ничего ему не говорили. Телевизора в его доме не было, чтением он не увлекался.
– Я больше не хочу играть.
– Ты сдурел? – изумился Николя.
– Пойду домой.
Я поспешил рассказать обо всем Франку и Сесиль. Лучше мне было промолчать, потому что они снова поругались. Для начала я немного поинтриговал – заставил их угадывать. Они перебрали кучу имен знаменитостей. Франк пришел к выводу, что это интеллектуалы-шахматисты, вычислил Сартра и был потрясен. До Кесселя они не додумались – им просто в голову не приходило, что эти двое могут вместе играть в шахматы, шутить и смеяться. Проблема заключалась в одном: для Франка Сартр был высшим авторитетом, Сесиль же обожала Камю[68], которого Франк терпеть не мог. Я тогда не знал, что между Сартром и Камю следовало выбирать – как между «Реймсом» и парижским «Рейсинг-клубом», «рено» и «пежо», бордо и божоле, русскими и американцами, причем выбор делался раз и навсегда. Видимо, между двумя интеллектуалами существовали серьезные разногласия, иначе Франк и Сесиль не перешли бы так сразу на повышенные тона. Некоторые тонкости их разговора от меня ускользнули. Франк и Сесиль пытались переубедить друг друга, пуская в ход одни и те же аргументы. Звучали слова: «ограниченный», «история», «сообщник», «слепец», «трезвость взглядов», «непорядочность», «трусость», «мораль», «вовлеченность», «сознание». Победу одержала Сесиль: ее страстность и напор не позволяли Франку вставить ни слова. В конце концов он вышел из себя и рявкнул:
– Ты всегда была морализаторствующей мещанкой, ею и останешься! Как Камю.
Сесиль разозлилась, но ответила очень спокойно:
– А ты всегда был и останешься жалким претенциозным придурком. Как Сартр.
Франк ушел, хлопнув дверью. Мы с Сесиль остались ждать. Он не вернулся, но она на меня не разозлилась. Я попытался утешить ее и заступиться за Франка. Для нее этот спор был делом принципа. Чем-то жизненно важным, первостепенным. Я сказал, что я против такой принципиальности.
– Оставим эту тему. Он не прав, – ответила она и протянула мне толстую книгу, одну из тех, что были уложены в стопки на полу гостиной.
– «Человек бунтующий», Альбер Камю.
– Вряд ли я пойму.
Она открыла книгу, и я прочел первую строчку: «Кто такой человек бунтующий? Тот, кто говорит „нет“». Мысль не показалась мне сложной, и я заинтересовался. Означает ли это, что я тоже взбунтовался?
– Прочти, сам все поймешь. Читабельность Сартра раздражает их сильней всего. А еще светлый ум. Они ненавидят Сартра, потому что он прав, хотя я не во всем с ним согласна. На мой вкус он слишком человечен. Иногда следует быть более радикальным. Понимаешь?
Вечером, за ужином, я не смог удержаться и спросил:
– Угадайте, кого я сегодня видел за шахматной доской?
Франк сделал мне «страшные» глаза, но я его проигнорировал и все рассказал. Папа пришел в восторг и счел нужным пояснить маме, что Сартр – известнейший философ-коммунист.
– Он не коммунист, а экзистенциалист.
Этот нюанс был недоступен папиному пониманию.
– Не вижу разницы.
– Очень жаль, что не видишь!
Мама воззвала к Франку, и он подтвердил:
– Сартр близок к коммунистам, но в партию не вступил. Он прежде всего интеллектуал.
Папа предпочел уйти от скользкой темы и вознамерился объяснить Энцо тонкости игры, хотя чаще всего проигрывал ему. Энцо слушать не пожелал:
– Хочу напомнить – в нашей последней партии я поставил тебе мат.
– Давно, после войны. Пожалуй, мне стоит на днях заглянуть в этот клуб.
Мамин взгляд означал, что ей эта идея совсем не нравится, и я понял, что приближается гроза.
– А ты что делал в том бистро? Сколько раз я просила тебя не болтаться без дела? Ты, похоже, забыл об отметках по математике, иначе не вел бы себя подобным образом! Я запрещаю тебе таскаться по сомнительным заведениям! Все ясно?
Произнеся эту гневную тираду, мама вышла. Франк злорадно осклабился, а папа попытался меня утешить:
– Будет так, и никак иначе.
Вот так я в один день открыл для себя Кесселя, Сартра и Камю.
10
Конечно, я туда вернулся. Открыл дверь. Постепенно познакомился с членами клуба. Все они были выходцами из Восточной Европы. Венгры, поляки, румыны, немцы из ГДР, югославы, чехословаки, русские – о, простите, советские граждане, – один китаец и один грек. Большинство страстно любили шахматы. Двое или трое терпеть их не могли, не играли и все-таки каждый день приходили в «Бальто». Больше им некуда было пойти. Венгры предпочитали карты: правила знали только они, никто другой постичь их был не в состоянии. На столике в углу лежали шашки, но прикасались к ним только Вернер и папаша Маркюзо. Когда кто-нибудь хотел поддеть партнера, говорил, кивая на стол:
– Шахматы – слишком сложная игра, может, переключишься на шашки?
У всех членов клуба много общего. Они бежали из родных стран при драматичных или фантастических обстоятельствах, оставались на Западе во время командировки или дипломатического визита. Одни никогда не состояли в компартии и годами скрывали от окружающих свои истинные взгляды. Другие были коммунистами первого призыва и очень долго истово верили, что действуют во имя всеобщего блага, а потом осознали весь ужас системы и обнаружили, что попали в собственную ловушку. Некоторые оставались коммунистами, хотя родная партия от них открестилась, а ФКПне пожелала принять предателей в свои ряды. «Они хуже предателей, – утверждал Франк. – Они – ренегаты!» Эти самые «ренегаты» вели бесконечные споры, искали самооправдания и задавались вопросами без ответов: «Почему ничего не вышло? Где мы допустили ошибку? Что, если Троцкий был прав? Во всем виноват Сталин или мы его подельники, читай – чудовища? Мы тоже виноваты?» Худшим из всех был вопрос о том, не является ли социал-демократия решением проблемы. На эту тему велись самые жаркие и злые споры. Страсти утихали только из-за языковых различий. Игорь, один из двух основателей клуба, предписывал всем говорить только по-французски и то и дело одергивал товарищей:
– Мы во Франции, значит говорим по-французски. Хочешь говорить по-польски, возвращайся в Польшу. Я – русский. Я хочу понимать твои слова.
Они выбрали свободу, покинув жен, детей, семьи и друзей. По этой самой причине в клубе не было женщин. Своих спутниц они оставили на родине. Они были тенями, париями – без денег, с дипломами, которых никто не признавал. Жены, дети и родина жили в их памяти и сердцах. Они хранили им верность. Редко говорили о прошлом, занятые тем, чтобы заработать на жизнь и найти в ней хоть какой-то смысл. Уйдя на Запад, они отказались от удобных домов и успешной карьеры. Они не думали, что день завтрашний окажется таким невыносимо трудным. Некоторые за несколько часов превратились из высокопоставленных функционеров и руководителей крупных предприятий в бездомных бродяг, и это падение было столь же невыносимым, как одиночество и ностальгия. Многие находили политическое убежище во Франции, помыкавшись и постранствовав по миру. Здесь было куда лучше, чем в отвергших их странах, здесь была родина прав человека, конечно, если ты умел помалкивать и не предъявлять слишком высоких требований. Они все время повторяли, как заклинание: «Мы живы и свободны». Однажды Саша сказал мне: «Разница между нами и остальными заключается в одном: они – живые, мы – выжившие. Если ты выжил, грех жаловаться на судьбу, это было бы оскорблением тех, кто остался там».