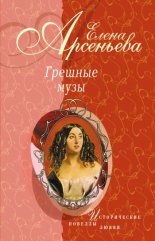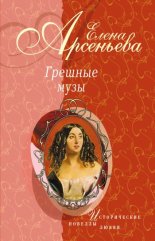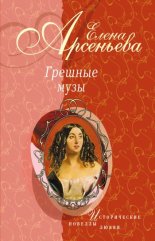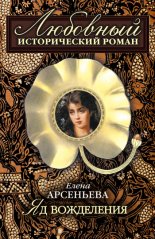Компромат на кардинала Арсеньева Елена

Эта сила была – любовь. Она влюблена! В кого же?
Я не знаю этого и не узнаю никогда. Я не знаю даже, как ее зовут.
Глава 10
СЛОУ ЭНД КВИК, КВИК
Россия, Нижний Новгород, ноябрь 2000 года
– Матерь божия! Это не студия, это получается клуб инвалидов детства! – раздраженно выкрикнула Майя и повернулась к Сергею: – Давай ты поведи, я охрипла. – Но тут же, не дав ему слова сказать, снова завелась: – Вы забыли, что это свинговый танец! Где правая точка, где левая точка? Вы не достигаете высоты! Почувствуем музыку, которая играет! Медленный вальс танцуем, а не вот это!
Она сердито затопала, чуть ли не вприсядку.
– Сергей! Танцуем! Все смотрят на нас! И р-раз, два, три!
Полетели по залу. Сергей ощущал сильную, такую знакомую руку Майи на своем плече, и, как всегда, ему казалось, что не он ведет танец, а она напористо поворачивает его то вправо, то влево, одновременно нажимая ладонью на его ладонь. Она – гончар, он – глина. Так было всегда, сколько он себя помнит, – уже одиннадцать лет Майя его лепит, ваяет, делает и заново переделывает.
«Это мой приемный сын, только я в жизни бы не хотела иметь такого сына!» – шутливо представляет она его своим подругам. Честное слово, родная мать не обращается с Сережей столь властно и безапелляционно. И безнадежны все попытки вырваться из-под этой нежной, любящей, пылкой, но такой деспотичной власти. Да и надо ли? Штука в том, что Майя его с радостью отпустит, как птицу с ладони, чуть только забрезжит что-то для него настоящее, реальное, когда мелькнет впереди хоть тень грядущего успеха, за который надо будет побороться. Но пока… ничего в волнах не видно, как поется в старинной песне, которую так любит отец.
«Я хочу танцевать! – подумал Сергей с внезапной, острой, почти физической болью. – Не так, как здесь, в студии, один только бесконечный тренинг, тренинг. Нет, я знаю, что это нужно, школа нужна каждый день, но ради чего? Ради того, чтобы снова понять: я здесь лучший, мне здесь никто и в подметки не годится, я достоин большего, – но где оно, это большее?!»
Сергей вспомнил конкурс «Спартак» в Москве, откуда они с Майей вернулись неделю назад, однако все еще звенела в ушах музыка, сверкали бриллианты и меха красивых дам, для которых заплатить за столик близ паркета 150 баксов – раз плюнуть; все еще мелькали-золотились платья, как минимум от Мишеля Летовальцева, в полторы-две тысчонки долларов каждое, а может, сшитые в какой-нибудь Англии, где цены покруче, к пяти катятся; все еще щекотал ноздри особенный, возбуждающий аромат большого, праздничного, страшно дорогого столичного шоу… и он чувствовал себя уличным щенком, которого пустили только на порог кухни, дав понюхать вкуснейшей похлебки с самым лучшим, что есть на свете, с мозговой костью, и тут же вышибли коленом под зад. Мальчик, ползи в свой Нижний Пригород, да нам плевать, что ты там, в этой деревне, супер, только дураки думают, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в столице, понял?
У тебя есть денежки заплатить за пять дней проживания в Москве – минимум 400 рублей в сутки – самый зачуханный отельчик, да видео за день 250, да участие в конкурсе 500 рублей с пары, да плюс дорога в оба конца, а билет от Москвы до Нижнего теперь тоже полтыщи? У тебя есть сотня зеленых на новые ботинки для стандарта и столько же для латины, причем не из нижегородской обувной фабрики «Элегант», а от «Супер-Дэнс» или «Фриды»? Фрак с хорошей рубашкой, да хотя бы манишкой для стандарта – тысяча долларов, для латины – поменьше, но тоже круто? У тебя есть минимум три тысячи на два платьица партнерши? У тебя и партнерши-то нет, придурок!
– Что, я не слушаюсь? – Майя улыбнулась мельком, отвернулась от Сергея и покачала головой: – Контр-чек меня совсем не устраивает. Вспоминаем. Стоим во фронтальной позиции. Сначала снижаемся. Девочки, здесь побольше отки-нем-ся, сейчас в программах допускаются очень сильные прогибы!
Поддерживая Майю под упругую спину, Сергей покосился направо. Лида резко запрокинула темноволосую голову, потом выпрямилась, поглядев в упор на Костю точно так же, как еще неделю назад смотрела на Сергея, – с тем же чуточку испуганным, почтительным выражением. Майя, помнится, злилась:
– Лидочка, ну что ты смотришь на него, как на господина и повелителя? Он и так лопается от самодовольства! Построже с ним будь!
Теперь Лида танцует с Костей, он от самодовольства не лопается, но улыбка ее не изменилась. Похоже, ей все равно с кем танцевать, на кого смотреть с этой рабской, трепетной почтительностью. Что и говорить, Сергею это льстило, но после того, как Лида стала танцевать с Костей, кажется очень глупым. Причем это Майя поставила ее к Косте, хотя сначала так радовалась, что нашла наконец партнершу Сереже. А потом начала: «Нет, она тебе не подходит. Ты пропускаешь занятия, ты вечно чем-то недоволен. И она слишком молодая для тебя девочка, ты с ней рядом смотришься стариком!» Не слабо – смотреться стариком в двадцать один год. Но Майя все же разбила пару.
Не сказать, чтобы Сережа так уж сильно расстроился. Конечно, Лида – хорошенькая, и танцует красиво, и очень музыкальная (закончила музыкалку, между прочим, даже в каких-то областных конкурсах участвовала), и родители у нее – люди очень даже небедные, не будет проблем ни со шмотками для конкурсов, ни с платой за участие. И все равно… что-то как-то было не так, она его чем-то раздражала. Или это кажется потому, что она танцует с Костей? Ну, теперь все, все, теперь даже если Майя передумает и захочет снова соединить их с Сергеем, он не согласится. Нет. Нет. Танцевала с Костей – ну и пусть с ним остается!
– Партнеры и партнерши! Не забываем об основных принципах стандарта! У вас есть толчковая нога, вы должны оттолкнуться, получить разгон. Вы начинаете ходить по улицам со стопы, никто же коленями вперед не ходит, почему же здесь коленку выставляете? Вы должны вытягиваться! Колени выпрямлять! Давайте вспомним медленный фокстрот. Сергей, поменяй музыку. Слоу энд квик, квик! Партнерши! Каблук, носок, носок! Каблук, носок, каблук! Забыли, что ли? Это же очень простой танец, как говорят англичане, ходи и улыбайся.
Сергей тихонько усмехнулся. Ничего себе, простой! Это самый трудный танец – медленный фокстрот. Но как классно танцевала фокстрот Иринка! Вообще Иринка была его лучшая партнерша. Сам он с ней ни за что бы не расстался. Хотя Майя вечно ворчала: «Ирина, ну ты хоть улыбнись, ну что у тебя такое мертвое лицо!» Да кто там смотрел на ее лицо, для танцора главное – тело, а она была пластичная, как… ну, она была какая надо! Причем отношения с ней у Сергея были отличные: сначала, как водится, они строили друг другу глазки, потом как бы даже влюбились маленько; а потом стали просто хорошими партнерами в танце. А вскоре… вскоре начались у Ирины какие-то проблемы с мужиками, она связалась с женатым, он ее соблазнил и бросил. Помнится, вся студия это откуда-то узнала и бурно обсуждала. Интересно, почему девчонки делают такую дикую проблему из потери девственности? А когда это самое теряют парни, как бы ничего особенного в мире не происходит. Происходит, ого, еще как происходит! Вон, Костя рассказывал, как его пионервожатая в лагере соблазнила… Да и Сергей мог бы порассказать такое, от чего все попадали бы. Но не расскажет. Никому и никогда.
– Сережа, да хватит тебе стоять! Ну что ты там на сцену облокотился, как будто ноги не держат. Ты мне помогать должен, а ты что стоишь? Иди сюда!
Сергей нехотя приподнялся. Как-то очень удобно сцена поставлена в этом маленьком зале, низкая такая, как раз под задницей, и не хочешь, а присядешь на нее. Шагнул – и сразу чуть не споткнулся о внезапно открывшуюся дверцу внизу. Там уборщицы хранят всякие тряпки, швабры и вечно забывают закрыть как следует. Ее вообще с первого взгляда не разглядишь, никакой задвижки там нет, ни щеколды, ничего. Когда-нибудь кто-нибудь здорово запнется и расшибет себе нос. Между прочим, через эту дверцу можно пролезть под сцену, а оттуда пробраться заколоченным ходом в подвал, из которого, кстати, тоже нет выхода, зато в нем есть окошки на Покровку, забитые теперь крест-накрест, чтобы кошки и крысы не лазили. Раньше, когда Сергей только еще пришел в студию, они с пацанами как-то забрались под сцену и протиснулись-таки в подвал. Майя голову сломала, куда они подевались. Вот только что были – и уже их нету. Интересно, тот ход еще сохранился? Надо бы проверить, только зачем? Да теперь небось и застрянешь, если полезешь туда, все-таки подрос мальчонка.
– Что еще мне не нравится? Слоу энд… На «энд» меняется ведущая сторона. Вы танцуете, как дилетанты. Стороны ваши не работают. А ведь они должны работать и в латине, и в стандарте!
Майя говорит, Ирина ей звонила на днях, звала в «Наутилус» на свое новое шоу. Жаль, что у Сергея именно в это время будет выступление в «Рэмбо», а то сходил бы с Майей за компанию. А может, и нет. Все-таки еще жива обида на Ирку, очень жестоко она подвела и его, и Майю. Уж сколько та денег, сил в нее вложила, сколько баксов тратила на концертные платья, и что? Впустую! Ушла красотка и не оглянулась. Майя аж заболела тогда от расстройства. А может, правду говорит, что Ирка напустила на нее какую-то порчу. Так сказать, из благодарности. Она почему-то была убеждена, что Майя наживается на них. Ни хрена себе наживается! Один только конкурс – в Нижнем, а не в Москве! – провести стоит чуть ли не тридцать тысяч зеленых! Поди-ка, вытряхни такую сумму из спонсоров. Да сколько раз Майя свои деньги вкладывала, причем без всякой надежды заработать, даже без надежды вернуть их, – один Сергей это знает. Но Ирку было не убедить. Это ей мамаша в голову втемяшила – а мамаша у нее сущая ведьма. Может, она и напустила на Майю порчу. И уж точно именно она приворожила Ирке этого ее богатого мужика, который ей и ее подтанцовщице устроил протекцию в «Наутилусе», и рекламу отличную сделал, и дал денег на обалденные сценические костюмы. Не то что Сергей с Петром и Женей, с которыми он работает в «Рэмбо». Господи, как вспомнишь, из чего они шили свои костюмы… Хотя, говорят, неплохо получилось.
Нет, все же девчонкам легче. Всегда найдется какой-то богатый дяденька, который с удовольствием раскроет для них кошелек. Конечно, за все надо платить натурой, но это уже как бы само собой. Это уже почти нормально воспринимается, если речь идет о девчонках. Но с парнями совсем иначе дела обстоят…
– Да что у нас такое сегодня с медленным фокстротом?! Снова шаг-перо. Слоу… девушки, вы здесь активно пропускаете партнера мимо себя. Стараетесь сохранить контакт в бедрах, но пропускаете его мимо. Проносите ногу свою за счет того, что подтягиваетесь, здесь нет подъема на носки, работают только колени, но оч-чень активно! Контакт в бедрах сохраняем, я же только что сказала! Матерь божия! Здесь меня кто-нибудь слышит или просто так на танцы пришли, порезвиться?
Сергей мельком улыбнулся, делая вид, что слышит. Мысли о конкурсе так и не шли из головы. И вдруг вспомнился разговор, который завязался, когда они с Майей возвращались с конкурса «Спартак».
В их купе ехала еще какая-то женщина в черном брючном костюме, которая рассеянно поздоровалась и сразу забралась на верхнюю полку, хотя Сережа и сделал попытку уступить ей свою нижнюю. Там женщина включила маленький свет и зашелестела страницами огромной толстенной книги, сразу потеряв всякий интерес к попутчикам.
Четвертым же в купе оказался Павел Малевич, знакомый и Сергея, и Майи, тоже руководитель студии бальных танцев из Нижнего. Он-то принял предложение Сергея поменяться полками как должное!
Малевич вел свою студию в том же Доме культуры, что и Майя, и хоть они знали друг друга сто лет, хоть считались товарищами по цеху, но все эти сто лет тихо соперничали – а иногда даже не очень тихо. Малевич дико завидовал, что у Майи и в детской школе, и во взрослой, и в студии, где занимались ребята годами, десятилетиями, можно сказать, народ стабильно держался, а от него с женой ученики уходили один за другим, хотя у Павла и Нелли Малевичей, конечно, имя было погромче, чем у Майи Полуниной, и связи покрепче, и денег побольше. Однако же вот…
Как-то раз Сергей случайно слышал в раздевалке разговор двух девушек, которые перешли от Малевичей к Майе:
– Да ну его на фиг, он на меня смотрит с таким отвращением! Деньги берет, это нормально, даже улыбается, а как начну танцевать, сразу рожа такая, будто его вот-вот прямо на меня вырвет!
– Ты что? – изумленно спросила вторая. – А как ему еще на тебя смотреть, если он педик крутейший?! Для него всякая женщина – исчадие ада, и вообще…
– Мале-евич?! – протянула первая. – Педик?! Да брось-ка!
– Вот тебе и брось. Это сейчас он попритих, а раньше знаешь какие слухи о нем ходили? Говорят, – голос ее слегка понизился, – был даже какой-то процесс, только это дело спустили на тормозах, все-таки еще при коммунистах они с женой были очень известной парой, честь области защищали, то-се, всякие призы пачками брали…
– Слушай, да ведь он женат! И как же он с женой живет, если…
– Дитя! – покровительственно усмехнулась вторая девушка. – Зачем ему с ней жить? То есть я хочу сказать, внешне они пара, все чин-чинарем. Но у нее своя, совершенно особенная личная жизнь.
– Она что, лесбиянка? – ахнула совершенно потрясенная подруга.
– Нет, зачем? Она нормальная баба, только мальчиков старше двадцати лет в постель не берет. Нравится ей младший возраст, понимаешь? Как Давиду. Это он, что ли, девочек брал в постель, чтобы они согревали его кровь?
– Господи, какой еще Давид?! Он тоже студию бальных танцев ведет, что ли? Да они в этом бизнесе все извращенцы?!
– Не все. Наша Майя Андреевна абсолютно нормально ориентирована. У нее знаешь какой мен? Застрелиться и не жить! А Давид, кстати, был…
Тут кто-то вошел в раздевалку, и разговор прервался. Ничего интересного Сережа больше не услышал, и про Давида ничего не узнал. Но это точно был не преподаватель бальных танцев, их всех в Нижнем Сергей знал наперечет!
Но какая бы ориентация ни была у этого самого Давида, Малевич в самом деле считался довольно известным педиком. Однако последнее время он вел себя вполне прилично, и слухи как-то сами собой улеглись. К тому же от ребят из Майиной студии он держался на почтительном расстоянии: Сергей как-то случайно слышал, что отец одного из мальчишек пообещал собственноручно кастрировать Павла Васильевича, ежели тот лишь посмеет протянуть свои грязные лапы куда не надо, пусть даже мысленно, ну а становиться кастрированным педиком тому, вероятно, не хотелось. То есть обычно все было как в лучших домах, однако сегодня, на закрытии «Спартака», они все изрядно выпили, и какие-то тормоза у дяди Паши, судя по всему, отказали.
– Видел, видел я, как у Сержа глазеночки блестели, когда смотрел на паркет, – промурлыкал Малевич, крепко кладя руку на колено Сергея, однако тотчас убирая ее, стоило тому нервно дернуться. – Да не раздувай ноздри, Майя Андреевна! Ну придется, рано или поздно придется тебе это признать: не удержишь своих мальчиков. Сколько могут они около твоей юбки сидеть? Всему, чему могла, ты их уж научила, теперь пришла пора другой школы и другой студии. Знаю, как Серж крутится – ночь через ночь в «Рэмбо» пляшет и в других борделях. Ну и сколько ты зарабатываешь за выступление? Двести рублей? Позорище…
– Кому как, – обиженно вздернул Сергей. – Где я еще столько заработаю?
– Сказать, где? – Малевич прищурился.
– Слушай, Паша, – натянуто улыбаясь, попросила Майя. – Не надо, а?
– Не надо? – Малевич хмыкнул. – Ну хорошо. Найди своим мальчишкам таких баб, любительниц молоденьких красавчиков. Мальчики днем будут их учить танцевать, а ночью трахать, но только тариф пусть установят поприличнее, чтобы не меньше тысчонки баксов в месяц! И оплачивать участие в турнирах – не на этой деревенщине «Спартаке», а в настоящих, рейтинговых, «Интернэшнл оупен». И не только парню, но и его молоденькой девочке-партнерше. Вот проблема, да? Где ты найдешь таких добреньких бабонек, чтоб и красивая была – надо же, чтобы мальчику хотелось на нее залезть, чтобы у мальчика струмент справно работал, это баба может в постели притвориться, а мужик – едва ли, – и чтобы щедрая? Красивые все сами на содержании, им самим платят, мужики платят, понятно? Баба нынче скупая пошла, ну не может она столько дать парню, чтобы он чувствовал себя нормальным человеком! Да и соперницу, которая все время перед мальчишкой молодой рожей-кожей и упругой попкой вертит, она не захочет содержать. Опять-таки, – Малевич вдруг громко икнул, – пардон, конечно, но я полагаю, что мужику принимать от бабы деньги – дюже погано. Однако если он берет деньги у друга… Хочешь, назову тебе навскидку пятерых почтенных людей, которые Сержа сделают не просто богатым, но очень богатым человеком и откроют для него путь на самый гладкий паркет? Ну какие трудности – быть полюбезнее с приятным мужчиной? У него появятся связи, деньги, он сможет ездить не только на «Спартак» или в Неметчину, но и… да, блин, хоть в Рио-де-Жанейро!
– А как насчет белых штанов? – спросила Майя сквозь зубы, и Сергей понял, что скандал-таки неминуем.
Его и самого подмывало сказать Малевичу что-нибудь не обидное (Сергей вообще не любил обижать людей), но достаточно категоричное: к примеру, а если ему нравятся девушки, то никуда от этого не денешься, себя не переделаешь ни за какие баксы, – однако, судя по Майиному напряженному дыханию, она не собиралась выбирать выражений.
Но тут случилось нечто, чего никто не ожидал. Их попутчица склонилась со своей верхней полки и, серьезно глядя на Малевича, сидевшего рядом с Сергеем, ска-зала:
– Вот из-за этого погибли Атлантида и Древний Рим.
– Чего? – растерянно спросил Павел Васильевич, и она не затруднилась повторить все с тем же серьезным, почти наставительным выражением:
- Вот из-за этого погибли Атлантида
- и Древний Рим.
- Кто суть свою божественную продал,
- тот стал другим.
- Ты суть свою божественную продал –
- за что, зачем?
- Стать раком перед мужиком –
- ведь это ж
- стать ничем!
Сергей беспомощно смотрел на нее, но лица не видел – мешала горевшая позади ее головы лампочка, только мягко поблескивали волосы.
Майя тихо ахнула, а у Малевича, похоже, вообще в зобу дыханье сперло. Он смотрел наверх, и вид у него был такой, словно он сейчас ринется на незнакомку с кулаками. Однако не решился – только выдохнул:
– С-сука! – И тотчас выскочил из купе, прихватив свою сумку, все еще стоявшую неразобранной, и сорвав с вешалки куртку.
– Пожалуйста, извините его, – беспомощно пробормотала совершенно подавленная Майя. – Он выпил лишнего, ну и…
– Да нет, это вы меня извините, – мягко сказала женщина. – У меня вообще-то нет привычки вмешиваться в чужие дела, разве что крайняя необходимость возникнет. Просто не могла удержаться. А теперь спокойной ночи, да?
Она пристально посмотрела в глаза Сергею, который таращился на нее, как дурак, чуть ли не разинув рот, улыбнулась какой-то странной, беглой, словно бы на мгновение вспыхнувшей улыбкой и снова легла, но на сей раз погасила лампу и повернулась к стене.
Они с Майей тоже быстро разобрали свои постели и тихо, молчком улеглись. Малевич так и не вернулся в купе, наверное, выпросил у проводницы другое место, его полка осталась пуста, но Сережа все-таки не стал устраиваться на своей бывшей нижней полке, а полез наверх. Он почему-то долго не мог уснуть, да и потом то забывался, то вскакивал, пристально вглядываясь в очертания фигуры, тихо лежащей напротив. Когда в последний раз так странно колотилось сердце?
По-настоящему он заснул только под утро, уж и Владимир проехали. И приснился ему сон… нет, приснилась одна история, которая произошла в его жизни в реальности – а может, и нет, это как посмотреть!
Ему тогда было семнадцать, как раз в десятом классе учился. Простудился у Майи на даче в Зеленом городе: они вечно таскались туда на Старый Новый год или на Рождество, а там из отопления – только хиловатый камин. Пока есть кому подкладывать дровишки, еще ничего, однако постепенно всех смаривал сон, и к утру дачка потихоньку промерзала. Просыпались, натурально клацая зубами. И вернулся Сережа в тот день домой уже с температурой, а утром все же потащился в школу – у него были проблемы с математикой, ну а вечером студия, он опять же не мог пропустить… Короче, догулялся до воспаления легких, участковая докторша велела ложиться в больницу, а в больницу мама его не отдала: там как раз прорвало отопление, трубы перемерзли, больных кого по домам отправили, кого распихали на всякие автозаводы или в Сормово, и мама встала стеной: не ляжет Сергунька в больницу, и все тут!
Да он и сам не хотел. И так еле живой, а там и вовсе загнешься. Но как-то все шло к тому, что дома тоже вполне можно загнуться… А тут пришла соседка, мамина подруга, и говорит:
– Маша, да ты что, не понимаешь, что на парня порчу напустили? Простуда тут ни при чем. У него вон аура почернела вся, я же вижу! Надо хорошую знахарку вызвать, у меня есть одна такая знакомая, ты даже не представляешь, какие вещи она делает с людьми!
Мама Сережина, сугубая реалистка, ни в каких знахарок отродясь не верила, однако и вера в медицину у нее весьма покачнулась в последнее время. Сын таял на глазах, а помочь она ничем не могла. От соседкиных слов ей вдруг чуть ли не впервые стало по-настоящему страшно за Сережину жизнь. Она посмотрела в его окруженные тенями, ставшие огромными и уже как-то по-особенному равнодушными глаза и слабо кивнула, согласная на все.
На другой день, когда ждали знахарку, Мария Алексеевна уже раскаялась в содеянном. И, главное, муж был в командировке, совершенно не с кем посоветоваться. Придет какая-нибудь злая ведьма, еще хуже навредит!
Однако пришла нормальная женщина, не старуха, не девчонка – средних лет. Отнюдь не с черными космами – с нормальными, высветленными волосами, одетая в нормальное темно-синее платье, без всяких там колдовских черных балахонов. Посидела рядом с Сергеем, посмотрела на него, поговорила с матерью – Сергей только и запомнил, что говорила она очень тихо, необычайно мягким голосом, – а потом попросила Марию Алексеевну выйти и полчасика посидеть на кухне, причем в комнату сына не входить ни за что, ни в коем случае.
– Да вы закройтесь, если такое дело, если опасаетесь, – предложила мама. – Вон, у него крючочек на двери, правда, Сергунька им никогда не пользуется, но крючочек все-таки есть.
– Вот и хорошо, – сказала знахарка, проводила мать до порога, закрылась на крючок, а потом постояла еще, словно вслушиваясь во что-то, и погасила свет.
Сергею к тому времени сделалось так худо, что он даже и не понимал толком, что происходит. То есть он понимал, что к нему пришла знахарка, но как бы даже и не осознавал, что и почему. И не удивлялся ни темноте, ни странному шелесту, ни тихим шагам около своей постели. Не удивился, и когда знахарка села рядом, положив ему руку на лоб, а потом прилегла, умостив голову на его подушке и касаясь лба уже не рукой, а губами.
Она лежала тихо, и Сергей ощущал запах ее духов – прохладный, чуть тревожный запах. Она откинула одеяло с его груди и стала осторожно водить пальцами по влажной футболке, описывая круги вокруг сердца. Круги становились все меньше и меньше, пока не сомкнулись, и тогда она взяла его ногтями за сосок и принялась теребить, чуть поцарапывая, и тихо вздыхала в лад его вздохам. Потом она совлекла одеяло полностью, прижалась к Сергею всем телом, и он так остро, как давно ничего не ощущал, почувствовал, что она обнажена.
Может, это бред все был, что она с ним делала, он не знал толком… Помнил, правда, как рвался из горла счастливый, блаженный стон, а она накрывала его губы своими и прижималась так, что ее груди, казалось, вдавливались в его безумно дышащую грудь. Потом он или уснул, или сознание потерял, слышал только удивленный голос матери:
– Какой странный запах!..
И голос ответный, тихий и необычайно серьезный:
– Это пахнет лекарство. Вы больше не волнуйтесь: с ним ничего плохого не случится. Никогда!
И все – и поглотило Сергея забвение до самого утра, а утром вся постель была в испарине, но проснулся он с волчьим аппетитом на радость всплакнувшей маме, а к вечеру чувствовал себя уже вполне здоровым, только бесконечно слабым, ошарашенным и… счастливым.
Воспоминание это было таким странным, неправдоподобным, что Сергей потом постарался загнать его в самые дальние глубины памяти. Он вообще по жизни боялся всего, что вынуждало чувствовать слишком сильно: сильно радоваться, тем паче – страдать. Это было отчего-то невыносимо для него! Но почему тот случай вдруг всплыл во сне, приснившемся ему в поезде? Почему пробудился он в полной уверенности, что женщина, мягким, серьезным голосом сказавшая стихи про Атлантиду и Древний Рим, – та самая, которая впивалась в его губы своими и тихо стонала в лад с его стонами?
Проснулся, сел, уставился сумасшедшими глазами на полку напротив. Она была пуста, и даже белье собрано. Проводница сказала, что попутчица сошла в Дзержинске.
Вот и все…
Сергей невольно вздрогнул, когда Майя над самым его ухом вдруг воскликнула:
– Переходим к венскому вальсу. И раз, и два, и три! Работаем корпусом, работаем! А тебе чего?!
Сергей уставился на нее с недоумением, но Майя обращалась не к нему. В зал заглянул Малевич.
– Майя Андреевна и ты, Серж, – улыбнулся как ни в чем не бывало, словно и не было той сцены в поезде, словно и не он ходил всю неделю со стиснутыми зубами, отводя глаза при встрече и не здороваясь. Теперь он – само обаяние! – Вот скажите, что я вам не друг! Знаете, какую потрясную протекцию составил? Светят хорошие денежки и, что характерно, некая слава. Слыхали, да, что Мисюк – ну, тот самый, великий, из Москвы! – будет Булгакова в нашем ТЮЗе ставить? Так вот. У него гениальная задумка: одна сцена происходит целиком в сопровождении танго. Должна быть суперпара, которая будет танцевать на сцене. А кто у нас в Нижнем супера? Вы, родимые мои, ненаглядные!
Небольшие, в набрякших веках глаза Малевича так и лучились неподдельной добротой:
– Завтра ровно к десяти утра пожалуйте на репетицию в ТЮЗ. Я вас в вестибюле встречу. Познакомлю с великим человеком. Майя, если ты из-за пустых предрассудков не дашь Сергею ухватить шанс, то будешь просто собака на сене, понятно?
Майя оглянулась на своего любимого ученика, на его возбужденно вспыхнувшие карие глаза… но только и смогла что поджать губы, не сказав ни слова.
Она не была собакой на сене. Она видела, Сергей просто болен, так ему хочется всерьез танцевать! Чем же это плохо – танцевать в спектакле, который ставит знаменитый Эмиль Мисюк? Наверное, там будет настоящий большой выход. Нельзя упустить такой шанс. А что касается разговоров, которые об этом Мисюке ходят… Ну, Сергей уже большой мальчик, вполне может за себя постоять.
Глава 11
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ
Скажи мне кто-нибудь прежде, что декабрь может быть именно таков, с солнцем и невянущими цветами, я бы в жизни не поверил. Эти погоды, этот климат внушает… сам не знаю что, какое чувство. Наверное, преклонение пред красотой. Рим, Рим, Рим… Какой божественный, легкий и солнечный здесь воздух. Знаю теперь: нигде мне не было и не будет так хорошо, как в Риме, остаться здесь навечно – значит навечно остаться молодым, красивым, вечно пребывать в этом ожидании счастья, которое, как известно, даже лучше счастья уже осуществленного.
Я готов ждать вечно! Я готов вечно ходить по улицам Вечного города и вглядываться в женские лица, надеясь увидеть то единственное, снова встретиться взглядом с теми глазами – темными и в то же время такими светлыми, чей взор опутывает, словно нежно звенящие нити…
Федор, эти строки тебе придется вымарать. Как думаешь, что скажет батюшка, когда прочтет их?! Эва, хватил: вчерашнего дня искать! Опамятуйся, друг мой.
Был нынче в храме Св. Петра. Меня поразили здешние свечи. Они более напоминают плошки. Их удобно ставить пред ликом святых. Но есть и другие свечи, напоминающие наши, русские. Они зовутся cerini – тонкие, длинные, после них на пальцах остается ощущение воска и его нежный запах, почему-то совершенно другой, чем у тех свечей, которые ставил я к образам дома. Я присел на большую скамью со спинкой как раз напротив надгробия Стюартов (работы Кановы) и наблюдал, как менялся с наступлением ночи храм. Уже настал час prima sera – так в Риме называют вечернюю пору от семи до девяти часов, уже тьма поползла меж колонн, а я все сидел и думал о том, что громада этого великолепного собора изначально должна была подавлять все вокруг, все прежние, античные развалины, подобно тому, как христианский мир подавил античный. Сам не ведаю, отчего меня бросает в дрожь лихорадочную, стоит лишь осознать: вот в этом тихом углу Форума, у источника нимфы Ютурны, поили своих лошадей Диоскуры! Помню, в Римской Кампанье я набрел на заросший тростником и травами узкий ручей – и замер, сообразив, что предо мной Альмоне, «кроткий Альмоне», как называл его Овидий. Все это место, со стоячими водами, с камышом, с могучими дубами священных рощ, раскинувшихся вокруг, казалось мне легендарным и чудесным. Мне даже слышались жалобы Персефоны, похищенной Аидом! В том же Форуме прочел надпись на передней стене алтаря – «Посвящается богам подземного царства» – и невольно поежился, словно воды Стикса начали медленно струиться перед ним, и все, что осталось в жизни, – это отдать Перевозчику последний обол… Думал я, что жизнь в те времена была проще, и два человека, мужчина и женщина, чьи пути вдруг пересеклись, могли приблизиться друг к другу, не будучи скованными путами, кои наложены на душу церковью и приличиями. Римлянки, говорят, даже поклонников своих могут видеть лишь мельком, встречаются по воскресеньям в храмах, на мессе, чтобы обменяться страстными взорами…
Впрочем, в те древние, непредставимые времена, о которых я мечтаю, каким образом житель далекой северной России мог бы очутиться в Риме? Чушь. Впрочем, у этого города есть таинственная способность все поглощать, все делать своим, сглаживая разницу между людьми и эпохами. От этого равно умиляешься изображениям Sacro Bambino27 на руках Пречистой Девы – и развалинам Colosseo28, кои я намерен посетить завтра же.
Равнозначны для души фрески на потолке Сикстинской капеллы и останки гробницы Цецилии Метеллы, красота которой трогает меня, сам не знаю почему, возможно, из-за невероятной благозвучности сего имени. Италианские женские имена прекрасны. Лючия, Лаура, Метильда, Беатриче, Леонтина, Симонетта, Джилья, Марианна… Сам не знаю, какое выбрал бы для…
Досидел в храме до того, что послышался звон ключей привратника, который весьма изумился, увидав меня. Все молящиеся и праздные посетители уже давно ушли, пусто было кругом. Неужто я ждал, что придет она? И непременно ради того, чтобы тайно встретиться со мною!
Глупец! Лучше поразмышляй о том, что древние скульпторы, оказывается, укладывали на своих статуях волосы Минервы восемнадцатью способами! Не успокоюсь, пока не зарисую в свой альбом их все.
Происшествие, нынче со мною случившееся, не могу иначе назвать, как произволением господним. Душою моею враз владеют и смятение пред игрою случая и страх, почти священный пред лицом Провидения, кое столь твердо и беспрекословно указало мне на бессмысленность и даже преступность моих тайных мечтаний. Примечательно, что случилось все тотчас после посещения Colosseo, словно и мои грезы не что иное, как жалкое подобие античных руин, отступивших пред натиском реальности иного свойства.
Итак, я был в Колизее. Пришел туда еще днем, укрывшись в верхнем уголке этих огромных развалин. Мне было отчетливо видно, как внизу, на арене, работали, что-то напевая, папские каторжники. Звон их цепей и пение птиц, свободных обитательниц Колизея, сливались в единый нестройный хор. Я слушал птичий щебет, смотрел на невольников – и воображение уносило меня в древние времена. Некогда здесь убивали друг друга гладиаторы на потеху властителям мира, сидевшим на трибунах, от которых ныне остались бесформенные развалины. Потом императоры предали мученической смерти тысячи христиан – все на той же арене. В память об этом папа Бенедикт XIV воздвиг вокруг нее четырнадцать маленьких ораторий с изображением страстей господних. Только благодаря этому Колизей не был окончательно и бесповоротно разрушен, и можно было сидеть в моем тихом уголке, испытывая величайшее наслаждение, какое только могут доставить человеку воспоминания о том, что вершилось с ним самим и человечеством вообще.
Я пробыл там до ночи, до тех минут, когда каторжников увели, а птицы забились в свои гнезда. Все замерло. Вскоре, впрочем, развалины вновь ожили: нищие, которые ютятся в развалинах днем и собирают подачки с посетителей, развели костер на месте былого торжища смерти, как раз посреди арены, и легкий ветерок затянул ее и нижние ряды амфитеатра дымом. Над ним мрачно вздымались темные стены Колизея, освещенные полной луной. Мало-помалу дым поднимался все выше и выше, словно некие призраки прошлого – бестелесные, невесомые… Наконец мне стало жутко, и я ушел через тот же пролом, сквозь который пробрался сюда днем.
Луна светила необычайно ярко! Я понял, что, не пройдя по Риму в полнолуние, нельзя представить себе, как он прекрасен. Все мелкое, суетное поглощено огромными, чередующимися волнами света и тени, – только грандиозное величаво открыто взору. Признаюсь, я тогда впервые подумал, что в гравюре есть нечто, что недоступно писанию краскою. Вспомнить хотя бы листы Пиранези… Различие, непримиримое противоречие черного и белого – словно невозможность встречи для навеки разлученных!
Очутившись неожиданно для себя на Пьяцца Навона, пустой в сей таинственный час, я думал об этой встрече, которая не сможет сбыться никогда. Не стоит пояснять, что площадь сия с некоторых пор – излюбленное мое место в Риме. Я сидел возле фонтана и видел высокого человека в коротком плаще, который, чуть пригнувшись и опасливо на меня оглянувшись, вдруг прошел мимо и скрылся в одном из переулков, впадающих в площадь, словно ручей – в озеро.
«Кто он? – подумал я, оцепенело, почти сонно следя за игрой лунного света в вечных струях фонтана. – Тать нощной, идущий на богопротивное дело? Или счастливый влюбленный, который сейчас встретится с владычицей своего сердца и сорвет с ее уст долгожданное признание, а может быть, и поцелуй?»
Мне хотелось думать так. Я был сейчас этим счастливым влюбленным, я уже простер руки, но тотчас уронил их со вздохом, объяв лишь пустоту…
И вдруг странное нетерпение овладело мною. Я соскочил с влажного парапета и крадучись вошел в тот же проулок, в котором канул незнакомец. Я старался ступать как можно тише и даже сам не слышал звука своих шагов. И осторожность моя оказалась вознаграждена!
Силуэт того человека был виден у высокой решетчатой ограды, опоясывавшей один из домов. Послышался чуть уловимый звон, и я не сразу понял, что незнакомец стучит по ограде каким-то металлическим предметом, может быть, монеткой. Стук был не простой, а конечно же, условный: один длинный и два коротких. Медленно и быстро, быстро! Потом снова – медленно и быстро, быстро!
Потом он опустил руку и стал вглядываться меж прутьев ограды. И тут я увидел женскую фигуру, выскользнувшую из-под древесной сени и легко, почти невесомо подбежавшую к ограде с другой стороны.
Когда в последний раз так билось мое сердце? Не в тот ли незабвенный день, когда мандолина слепого музыканта соперничала со звоном струй фонтанов Пьяцца Навона? Забегая вперед, скажу, что я узнал ее сразу, еще не видя лица, узнал сердцем, кое в один миг было пронзено двумя равно острыми, но в то же время противоположными чувствами: счастьем и горем.
Я был счастлив оттого, что нашел ее. Я был вне себя от горя оттого, что ее обнимали руки другого мужчины!
Кованой решетки меж этими двумя, чудилось, не существовало. Удивительным казалось, что ограда не рухнула, таким пылким было объятие, которое я принужден был наблюдать. В первое мгновение мне захотелось броситься прочь, зажав уши и зажмурясь, не видеть их прильнувших друг к другу тел, не слышать томных вздохов и этих бесконечно повторяющихся:
– Ti amo!
– Ti odoro!
Однако я не мог сдвинуться с места, скованный ревностью – и странным восторгом. Их голоса казались мне песнею залетных чудных птиц, и это взаимное повторение имен вызывало слезы на глазах:
– Антонелла!
– Серджио!
Антонелла… Ее зовут Антонелла.
Глава 12
ЗАТАКТ
Россия, Нижний Новгород, ноябрь 2000 года
Наблюдательная соседка оказалась совершенно права: убийца Никиты Львовича Леонтьева стрелял именно с балкона. Попал он туда с верхнего этажа, из пустой квартиры. То, что она пустует, было известно от подкупленного агента из риэлторской конторы «Волга-Ока». От этого же агента за немалую сумму были получены на один вечер ключи, хотя никакого труда не составляло открыть элементарный гаражный замок столь же обыкновенной отверткой. Но не хотелось поднимать лишнего скрежета, а к приходам незнакомых людей, желавших посмотреть пустующую квартиру с целью ее последующей покупки, в подъезде уже попривыкли, вряд ли кто сможет точно вспомнить, был там кто-то в вечер убийства или не был. Человек, стрелявший в Леонтьева, имел все шансы запутать следствие. Он аккуратно подобрал все гильзы, он не оставил в квартире никаких следов, пришел и ушел незамеченным. Если бы не глазастая соседка… Правда, о глазастой соседке убийца ничего не знал. На счастье Людмилы Михайловны! А впрочем, какой смысл был ее бояться? Видеть она никого не видела, а странная девушка могла разыскиваться лишь как соучастница либо свидетельница убийства, но никак не его исполнительница.
Свидетельницей девушка не была – убийца совершенно точно знал, что его никто не видел. Соучастницей – ну разве что невольной. Не подозревая о той участи, которая уготована Леонтьеву, она тем не менее так заморочила ему голову, что он ничего не видел и не слышал вокруг себя – курил на кухне в форточку, набираясь, надо полагать, храбрости перед последним и решительным штурмом этой хорошенькой сероглазой крепости в мини-платьице, даже не замечал шевеления на балконе, пока у самых его глаз не мелькнула смутная тень, а потом не вспыхнуло нечто – тут-то Леонтьев и простился с жизнью. Вряд ли даже успел понять, что его убивают! И уж тем паче не знал он, даже вообразить себе не мог, за что с ним это сделали!
Убийца ничего против Леонтьева лично не имел. Он и видел-то жертву раза два в жизни – а если точнее, именно два: в первый – когда тот вышел из «Рэмбо» с девушкой, ну и потом с балкона – лицом к лицу, в последний миг его жизни. В казино его вел напарник. Такая у него была задача: приятная и непыльная. Сиди себе в полутемном зале, потягивай винишко да знай смотри в оба глаза, чтобы клиент с девочкой не смылись куда-нибудь незаметно. А потом убедись, что они вошли в квартиру, и дай сигнал. А потом напарнику оставалось только пришпилить на дверь знак – и вся его работа! Как говорится, не бей лежачего, хотя именно он считался ответственным за операцию. Руководил ею тот, другой, приезжий человек, ну а здесь, на месте, отвечал за исполнение напарник убийцы. Стрелять же досталось тому, кто стрелял. Впрочем, ему было не привыкать стрелять в людей.
Исполнять заказы, стало быть.
Когда убийца Леонтьева (то есть в то время жертва была еще жива, но это роли не играет, это мелкие детали!) увидел знак, который должен был появиться на двери жертвы, в первую минуту он решил, что его наниматели спятили. Незаметно переглянувшись с напарником, он понял, что и тот придерживается того же самого мнения. В этом знаке, с их точки зрения, не было никакого высокого смысла. Убийцы Леонтьева, как и все наемные убийцы на свете, обожали некие высшие совпадения, которые потом позволили бы им подспудно оправдать себя на том суде, где рано или поздно придется предстать каждому. Но они столько раз отправляли на этот суд каких-то других людей, что не очень-то верили в возможность его над собой.
Ладно, бог с ним, с тем судом, если он и произойдет, то случится это еще очень не скоро, какой смысл беспокоиться об этом?
Беспокоиться же следовало вот о чем: оказалось, что девчонка не должна была уйти от Леонтьева живой! Что за нелепость такая? Зачем убивать свидетельницу, которая никого не видела? Нет же, приказ был недвусмыслен: найти и обезвредить, прямо как в кино. Какой от нее вред, от этой глазастой психопатки, одетой в платьишко с декольте до пупка? Однако приказ был однозначен. И мальчишку, о котором было сообщено, тоже предстояло убрать. Ну, там дело терпело, исполнители еще даже не видели его в лицо, а вот насчет девушки все было сказано вполне определенно.
Да ладно, впервой, что ли? Рано или поздно все помрем, чего дергаться-то? Хуже было другое. Хуже было то, что денег им пока не дали за сделанную работу. А они и так сидели на полном подсосе. Значит, деньги предстояло как-то добыть. Как? Ну, видимо, старым дедовским способом: выйти на проезжую дорогу с кистенем и грабануть первого же встречного прохожего-проезжего.
Неохота было почему-то. Словно бы предчувствия какие-то нелепые томили убийцу Леонтьева! Ну не хотелось ему пылить по мелочам!
Как позднее выяснилось, «предчувствия его не обманули». В некой опере так поют, однако убийца Леонтьева и знать-то об этом не знал. Просто подумал: не обманули, мол, предчувствия, да и шабаш!
Глава 13
ТВИСТ-ПОВОРОТ
Франция, Париж, ноябрь 2000 года
Где-то в мире вовсю летали самолеты, однако аэропорт Шарль де Голль жил по своим законам.
Близился вечер, Тоня весь день ничего не ела, однако не чувствовала голода. Напряжение, владевшее ею, было слишком сильным, порою невыносимым. Смуглый дьявол куда-то исчез с глаз долой, однако она чувствовала его присутствие всей кожей, ощущала его взгляд, словно какое-то клеймо, подобное, к примеру, той лилии, которую всю жизнь носила на левом плече зловредная и обворожительная миледи Винтер.
Правда, какой-какой, но уж обворожительной сейчас Тоня никак не была и не могла быть. Костюм помялся, некогда элегантное пальто, которое она таскала переброшенным через руку, выглядело тусклой тряпкой, туфли начали немилосердно жать, а тоненький кашемировый свитерок, надетый по дурацкой привычке на голое тело, вдруг вздумал колоться. Вдобавок в аэропорту из-за огромного количества скопившегося народу сделалось ужасно жарко. Слава богу, что Тоня всегда носила в сумочке маленький флакончик с любимыми духами «Burbery week-end», и теперь она то и дело опускала руку в сумку, открывала флакончик и осторожно касалась благоухающим пальцем то кончиков ушей, то шеи, то висков, то затылка, стараясь делать это, конечно, незаметно.
Увы, незаметно получалось не всегда. Уже дважды, воровато обернувшись – не видит ли кто ее манипуляций? – Тоня почти наткнулась на торопливо отведенный взгляд высокого парня в серой щегольской куртке и зеленоватом клетчатом шарфе. Конечно, все туристы более или менее прибарахлились и приоделись в благословенной Франции, стране магазинов, однако этот светлоглазый был до того хорошо одет, что Тоня даже всерьез задумалась, а русский ли он вообще-то. Новые скоробогачи не выглядят так изысканно, однако тип лица у этого блондина был явно славянский. Может, какой-нибудь белоэмигрант, вернее, потомок таковых?
Парень держался особняком, хотя жаждущие отправки в Москву русские уже не то чтобы подружились, а почти сроднились. Женщины болтали о детях и мужьях, косметике и тряпках, мужчины осторожно прощупывали деловые связи, пара-тройка туристических малышей носилась туда-сюда по залу ожидания с таким визгом, что даже у зомбированно-вежливых сотрудников аэропорта порою проскальзывала на лицах откровенная классово-национальная вражда.
Молодой человек в серой куртке смотрел на вновь образованную человеческую общность с выражением отстраненным, порою что-то черкая тоненькой изящной ручкой в маленьком блокноте, и Тоня вдруг поняла, что его отстраненность – просто маска, на самом же деле он пристально наблюдает за происходящим, прислушивается к каждому долетающему до него слову, а самые интересные свои наблюдения записывает.
Может, это писатель? Им как бы по долгу службы полагается фиксировать свои впечатления. Да, этот парень куда более походил на писателя, чем та компания разномастных и разноплеменных фантастов, с которыми Тоня вволю наобщалась в опасном городе Нанте, где остался приснопамятный musee des Beaux Art. Один из них – русский, между прочим, еще молодой, но уже дико знаменитый, более похожий на добродушного шкипера с этой его щекастой бородатой физиономией и трубкой, распространявшей аромат совершенно дивного табака, и сейчас находился в поле ее зрения, однако руки его вольготно лежали на подлокотниках кресла и не были заняты никакими блокнотиками и карандашиками. С другой стороны, ну чего тут фиксировать фантасту, они же сидят в аэропорту Шарль де Голль, а не на пересадочной станции космолетов на каком-нибудь Альдебаране или альфе Кассиопеи! Знаменитый фантаст оставался видимо безучастным к происходящему, однако, когда все возбудились после переноса вылета на завтра и принялись бузить, требуя на расправу самое высшее начальство «Эр Франс», он охотно принял участие в общем оре, внезапно перекрыв его трубным гласом:
– «Эр Франс» – бэд компани! «Эр Франс» – бэд компани! – а потом столь же внезапно погрузился в прежнюю трубочную нирвану.
Тоня нарочно посмотрела, как будет вести себя блондин. Он не орал. Он спрятал ручку и блокнотик в карман, потом вскочил на транспортер, оказавшись таким образом выше всех орущих, и поднял руку. Уже несколько испуганные собственной смелостью (ввиду импровизированного митинга начали прогуливаться два ажана) старые и новые русские радостно уставились на самостийного лидера, который вежливо и обстоятельно, с мягкими, убедительными интонациями разъяснил, что переживать не о чем. Компания-де обязана устроить всех на ночь, причем, если до места ночлега предстоит добираться, то «Эр Франс» оплатит пассажирам и проезд, пусть даже и на такси, туда и обратно. Эта бэд компани также никуда не денется и накормит всех ужином и завтраком.
На лицах пассажиров выразилась гамма самых разнообразных чувств. С одной стороны, погано, что придется вернуться домой фактически на сутки позднее. С другой стороны, велико искушение на халяву скатать в Париж еще раз. С третьей стороны, особо востроглазые успели заметить, что некоторые рейсы все-таки отправляются! В аэропорту стало заметно свободнее: теперь держали только дальнее восточное направление. Улетели англичане, немцы, чехи и венгры. Самое ужасное состояло в том, что улетели даже хохлы!
А ведь на днях в Париже с официальным дружественным визитом побывал российский президент! Говорят, лакомился в каком-то обалденном ресторане на Елисейских Полях жареной свиной ножкой… И подложить после этого такую свинью русским?! Ну что это со стороны французов, как не саботаж, не дискриминация по отношению к русским?! Реванш за Москву и Березину, что ли?!
Блондин тем временем на очень недурном французском заговорил с маленькой точеной брюнеткой, представительницей «Эр Франс». Судя по карточке, пришпиленной к карманчику, ее звали Моник Блонди. Мадам Моник была так разъярена русским бунтом, что даже не замечала: верхняя пуговка ее форменного жакета расстегнулась, и в вырезе был виден кружевной бежевый лифчик, в котором трепетала маленькая, но весьма симпатичная грудь. Блондин, ведя беседу, с серьезным видом смотрел то ли на лифчик, то ли на его содержимое. Что характерно, туда же пялились все стоящие вокруг мужики, а также некоторые дамы, любительницы бежевого белья. Тоня носила только белое, но почему-то тоже таращилась на грудь мадам Моник.
Вдруг соблазнительница сказала нечто, от чего блондин встрепенулся.
– Товарищи, – произнес он вроде бы негромко, однако его почему-то все сразу услышали и доверчиво повернулись к нему, – мадам Моник говорит, что над Москвой завис колоссальный грозовой фронт, который нельзя преодолеть, но можно облететь. Здесь и сейчас совершил посадку самолет «Люфтганзы», который идет в Нижний Новгород. На борту есть свободные места. А среди нас есть люди, которые намерены были через Москву добираться в Нижний. К примеру, я, потом вот этот господин, – он кивком указал за заволжца, о котором Тоня, признаться, успела уже подзабыть, – вот девушка, – он в упор взглянул на Тоню, и она почему-то растерялась от улыбки, которая блеснула в светлых прищуренных глазах. – Ну и другие еще, наверное? А возможно, кто-то не захочет остаться в Париже и пожелает добраться до Москвы через Нижний? Разницу в сумме берет на себя «Эр Франс». Правда, вылет через два часа, мы будем на месте рано утром, учитывая время в пути и разницу во времени, а все поезда отправляются на Москву только поздним вечером, так что даже не знаю…