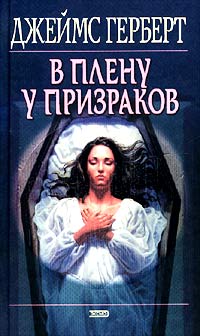Игра во мнения (сборник) Дашкова Полина
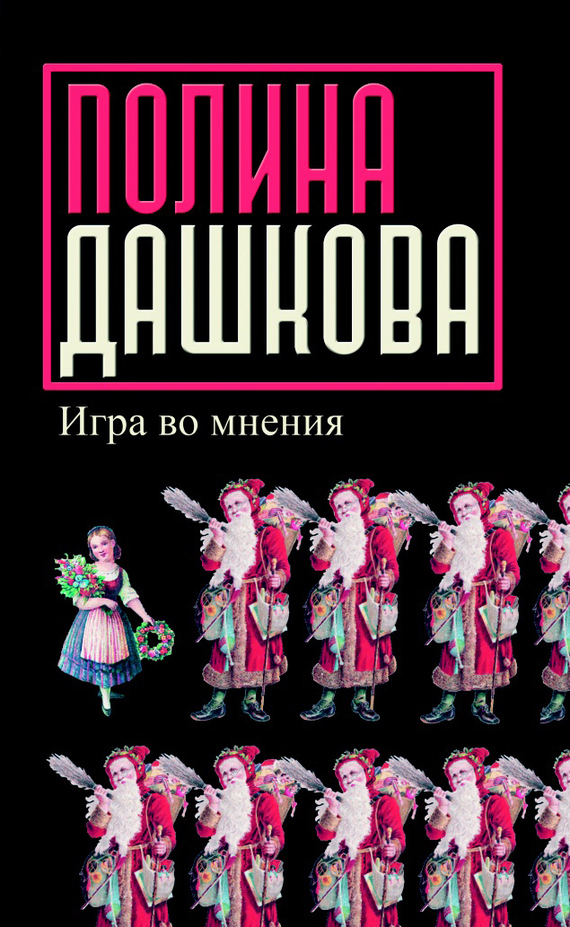
Игра во «мнения»
Набоков не любил Достоевского. Наверное, если бы Достоевский мог прочитать Набокова, он бы тоже его не полюбил. Льву Толстому не нравились пьесы Чехова. Впрочем, пьесы Шекспира ему тоже не нравились. Зинаида Гиппиус, встретив однажды отца Набокова, сказала: «Передайте вашему сыну, что он никогда не будет писателем».
В русской литературе вообще мало кто кого любил. «Анну Каренину» критики обозвали «гинекологическим романом». Кстати, сегодня, если бы Лев Николаевич был жив, эту книгу поставили бы в ряд «дамских романов». «Воскресенье» отправилось бы туда же, хотя есть шанс, что приписали бы к «детективу». Роман «Война и мир» попал бы в ряды исторических боевиков, вместе с «Капитанской дочкой» Пушкина. А «Смерти Ивана Ильича» прямая дорога в триллеры, за компанию с «Таманью» Лермонтова и «Муму» Тургенева. Весь Гоголь получил бы место в разделе «мистика», рядом с «Мастером и Маргаритой» Булгакова. Только «Мертвые души» ушли бы в «криминальный» ряд, и ближайшим соседом оказался бы многотомный Федор Михайлович.
Всех их объединило бы позорное, несмываемое клеймо массовости. В России для живого писателя массовость, то есть популярность – приговор. Тебе не светит приличная полка, не надейся. Ты массовый, и значит, ничего стоящего написать не можешь. Таково мнение критиков. А они разбираются в литературе лучше, чем рядовой читатель.
Я не знаю, где кончается здоровое желание критиковать и начинается зависть, ведущая к словесному недержанию. Не знаю, но чувствую. Плоды недержания так крепко пахнут, что их ни с чем не спутаешь. Когда я читаю мнения критиков о современной отечественной литературе, мне хочется надеть противогаз.
Чем успешней автор, тем ароматней бурлит перистальтика компетентных мнений. На самом деле, ориентироваться в этой гуманитарной физиологии не сложно. Если на книгу выливают ушаты саркастического пафоса, значит, книга хорошая. И наоборот, пафос восторженный гарантирует скуку и разочарование.
Хочется спросить обозревателя: слушай, милый, ты сам читал это? Ты честно осилил до последней страницы произведение, которое так хвалишь и рекомендуешь? Ты хотя бы держал в руках то, что смешиваешь с грязью?
Впрочем, вопрос останется без ответа. И это правильно, потому, что вопрос дилетантский и бестактный. Сегодняшний критик настолько образован и прозорлив, что может высказать свое компетентное мнение о любой книге любого известного автора, даже не заглядывая в нее. Он честно заработал право голоса на литературном рынке. Всех писателей он аккуратно рассортировал, разделил на «своих» и «чужих».
«Своих» много, они живут в стае. «Чужих» мало. Они одиночки. Каждого «чужого» «свои» помечают биркой, как в роддоме или в морге.
«Свой»– это клановая принадлежность. Товарищество и чувство локтя. «Свой» – член творческих союзов, жюри и комиссий. У него есть официальная прилитературная должность. Он говорлив и богат мнениями. Он умеет полезно дружить, так, чтобы приглашали на важные мероприятия. Он профессиональный тусовщик. Он строго соблюдает основной закон клана – хвалит своих, чужих смешивает с грязью. Но главное, у «своего» не бывает больших тиражей. Больший тираж как раз и является главным видовым признаком «чужого».
О «чужих» мне говорить сложно, поскольку сама принадлежу к этой малочисленной, вероятно, вымирающей, породе, каждый представитель которой помечен биркой. На ней русскими буквами написано английское слово «треш», то есть мусор (не в смысле «милиционер», а в смысле «плохой писатель», безнадежно плохой, массовый).
Нас, «чужих» не более десятка. Мы разные. Мы одиночки. Кроме бирок с надписью «треш», нас объединяет лишь то, что тираж каждого из нас исчисляется миллионами экземпляров. Любой рядовой читатель назовет нас поименно, не задумываясь. Но только избранные, посвященные, догадаются, о каких «своих» тут идет речь. Я и сама, честно говоря, плохо помню их уважаемые имена.
P.S. «Но ведь ты попса, треш! Ты пишешь дерьмо!» – кричал мой бывший литинститутовский сокурсник.
Мы с ним знакомы двадцать пять лет. Мы вместе ездили в колхоз под Волоколамск, на картошку в ноябре, мерзли в нетопленых бараках пионерского лагеря, пили одеколон. Не виделись очень давно и вот встретились на ток-шоу. Когда съемка закончилась, у меня стали брать автографы, а у него нет.
Он почти плакал: «Треш! Попса! Дерьмо! Ты не писатель! Какой ты писатель? Зачем ты это делаешь? Как ты это делаешь? Почему?»
Было шумно, никто, кроме меня, его не слышал.
Мы чокнулись и выпили. Он рассказал о своей новой подружке, потом – как принес в издательство роман, обещали когда-нибудь напечатать, попросили кое-что переделать.
На прощанье он тихо и безнадежно всхлипнул: «Ну, ты ведь, правда, не писатель?»
Его печальные глаза заклинали, умоляли.
Я ответила: «Успокойся, конечно же, нет. Я попса. Треш. А ты гений».
Он успокоился. Мы расстались друзьями.
Москва, 2005
Салюки
Москва, 1978
Впервые он увидел ее, когда ему было восемнадцать. А ей? Не важно. Как выяснилось позже, она не имела возраста. Она существовала в пространстве, но вне времени. Она жила в каком-то ином, своем измерении. Она скользила сквозь время, не меняясь совершенно, все тем же мелким вальсовым шагом, всегда сквозь крупный рождественский снег, под музыку. Вальс из «Щелкунчика» сопровождал ее вместе с тонконогой собакой-призраком. Даже если стояло другое время года, не зима, она все равно появлялась внутри круглого снежного сверкающего облака.
Наверное, тогда, в первую их встречу, он вполне мог бы с ней познакомиться. Это была новогодняя ночь. Половина первого. Кирюша Петров, выпускник Суворовского училища, курсант Высшей школы КГБ, встречал Новый год у бабушки, в компании своих старых теток, двоюродной Зои и троюродной Веры, а также бабушкиных подруг, офицерских вдов. Кроме него, там было еще два существа мужского пола: сослуживец покойного деда, безногий полковник в отставке дядя Коля и бабушкин пожилой овчар Дик.
Именно Дику, а вернее, свиным костям, которыми пес обожрался накануне вечером, юноша Кирилл был обязан счастьем встретить ее, свою рождественскую девочку.
Она тоже гуляла с собакой. Кроме них двоих и двух животных, ее белоснежной молодой суки и его пожилого бурого кобеля, во дворе в ту далекую метельную ночь не было ни души.
Сначала юноша Кирилл услышал музыку. Волны вальса ударили в лицо вместе с порывами метели, и снег на губах показался вдруг сладким и пьяным, как новогоднее шампанское. Дик стал рваться и подвывать. Кирюша тоже опьянел и почти сошел с ума.
В метели кружились два силуэта. Девочка и собака. Развевались длинные пепельные волосы и длинные белые уши. Летали, не проваливаясь в глубокий снег, пара ног и две пары лап. На девочке была короткая белая шубка. У собаки на шее блестело ожерелье из серебряной мишуры. Девочка танцевала вальс, собака бегала рядом, на поводке, довольно точно попадая в три классических такта. Откуда взялась музыка, неизвестно. На самом деле, было тихо. Далеко, в соседнем дворе иногда хлопали хлопушки, и кто-то заливался пьяным смехом.
Юноша Кирилл ошалел от красоты и счастья. Именно такую девочку он себе намечтал когда-то. Вот такую, легкую, как эльф, светловолосую, танцующую свой одинокий новогодний вальс в пустом заснеженном дворе. Оставалось подбежать, подхватить и закружиться вместе. Он отлично умел вальсировать. И, наверное, она бы даже не удивилась. Но он застыл, едва удерживая на поводке Дика, дрожащего от бешеного напряжения.
Пес почти потерял рассудок. У него, бедняги, бурлило в животе, он мучился поносом, но одновременно кипела кровь. У белоснежной красавицы суки была течка.
– Эй, не подходите! – крикнула девочка.
Пес даже не лаял, он глухо рычал и трясся, сгорая от страсти. Снег, по которому только что пробежало его тонконогое недоступное счастье, задымился под раскаленным носом.
– Не бойтесь, мы сейчас уйдем! – крикнул Кирилл и потянул своего пса прочь, к соседнему двору. – Только скажите, какая это порода?
– Салюки!
Он никогда не слышал о такой породе и никогда не видел таких собак. Тонкая, белая, гладкошерстная, но с длинными, мягкими, как женские волосы, ушами и большим пушистым хвостом, с гибким хребтом русской борзой, со стройными высокими ногами. Да, он старался разглядеть собаку и боялся посмотреть на девочку. Между тем обе они летели прямо на него и на Дика, которого он едва удерживал.
Он не смотрел на девочку, но все-таки разглядел лицо в фонарном свете. Глаза цвета ясного зимнего неба, подернутого первыми сумерками. Конечно, это была она. Самая главная девочка в его жизни. Снег искрился в длинных пепельных волосах, словно на голове у нее была фата невесты. Его невесты. Чьей же еще? Но он не решился познакомиться. Он утащил дрожащего Дика в соседний двор, она исчезла с вместе с течной салюки в метельной рябой тьме. Сердце его колотилось, во рту пересохло, а у пса долго еще стояла дыбом шерсть на холке.
Юноша Кирилл Петров удрал от своей мечты по той же причине, по которой встречал Новый год не в компании сверстников, а с бабушкой и ее подругами. Накануне праздника курсант сломал два передних зуба, сорвался с брусьев на тренировке по спортивной гимнастике, ударился ртом о железную перекладину и дико стеснялся своей щербатой улыбки. А вставить зубы, сделать красивые белые коронки, можно было только после праздничных выходных. Это было глупо, особенно для настоящего мужчины, офицера. Но юноша Кирилл ничего с собой поделать не мог. Стеснялся. Комплексовал и злился на себя так, что даже вспотел на холоде.
– Салюки? – равнодушно спросила бабушка. – Эта собака живет в соседнем подъезде. Псина умница, красавица, а хозяева противные. Торгаши, спекулянты.
– А девочка? – Кирюша затаил дыхание.
– Что – девочка? – бабушка посмотрела на него сквозь очки.
– Ну, худенькая такая, с длинными пепельными волосами, с голубыми глазами, в белой шубке. Она гуляла с собакой.
Вика. Младшая их дочь. В девятом классе учится, – бабушка поджала губы и принялась тщательно вытирать нолей и вилки. Пожалуй, слишком тщательно. Больше Кирюша от нее не услышал ни слова о своей мечте.
Владивосток, 1998
С моря дул соленый пронзительный ветер, и Коваль резким движением застегнул молнию своей старой кожанки. Он не признавал кашемировые пальто – васильковые, вишневые, изумрудные, в которых так любят щеголять бездарные «апельсины» и «шестерки»-коммерсанты. Он предпочитал простую удобную одежду. Его раздражали бриллиантовые перстни, платиновые запонки и галстучные булавки, но особенно нервировали пудовые цепи на запястьях.
«Смотрящий», то есть выбранный открытым голосованием воровской губернатор, должен жить налегке, не отвлекаться на ерунду и выглядеть солидно, ибо вращаться приходится не только среди лихой раззолоченной братвы, но и в высшем свете. Как-никак, хозяин края.
Коваль выбил из пачки сигарету и защелкал зажигалкой. Ветер был таким сильным, что фитиль «Зиппо» никак не хотел вспыхивать. Ребристое колесико прокручивалось, на пальце оставался черный след. Коваль сплюнул сквозь зубы, встал спиной к ветру, сложил ладони шалашом. Огонек вздрогнул, затрепетал. Коваль жадно затянулся и выпустил дым в тяжелое сизое небо.
– «Тойоты» должны прийти в пятницу, сто тридцать штук, – донесся до него низкий голос Михо, – надо бы подстраховаться. Чечены хотят встретить в порту.
– Ты лучше скажи, чего они не хотят, суки, – рассеянно, невпопад отозвался Коваль.
Михо искоса смерил взглядом мощную фигуру «смотрящего», открыл было рот, чтобы сказать: «Не раскисай, прорвемся, нельзя так раскисать. Одни мы здесь остались, не купленные чеченской саранчой. Всех саранча пожрала – ментов, фээсбешников, таможню. Только мы держимся, и будем держаться».
Но промолчал. Все это было уже сто раз переговорено. Коваль сутулился, зябко ежился и выглядел как-то нехорошо, жалко. Хозяин…
Площадка перед новеньким сверкающим зданием бизнес-центра продувалась насквозь. В огромных зеркальных окнах отражалось мрачное осеннее небо, башни портовых кранов издали выглядели маленькими, как детали детского конструктора. Мир под ветром казался зыбким, нереальным. Земля горела под ногами бледным невидимым огнем.
– Пошли в бар, выпьем, – тихо предложил Михо.
Коваль ничего не ответил, продолжал стоять, зажав в зубах потухший окурок. Кожанка не согревала. Он заметил, что в последнее время его постоянно бьет озноб, и вдруг подумал, что было бы значительно теплей, если бы он надел под куртку бронежилет.
«Да, конечно, – усмехнулся он, поймав себя на этой, совершенно идиотской мысли, – бронежилет, стальной шлем на голову и в бункер, в бетон, чтоб ни щелочки, ни окошка. Навсегда. На всю оставшуюся жизнь…»
Тут же перед глазами возникла толстая лоснистая морда в черной щетине, златозубая гаденькая ухмылка:
– Совсем ты глупый, Коваль. Глупый и жадный человек. Сегодня делиться не хочешь, завтра в бетон закатаем. Никто не поможет. Спрячешься – достанем.
Каркающая, хриплая скороговорка, ненавистный гортанный акцент. Коваля тошнило от одного только вида чеченцев, которых в последние годы развелось в Приморье столько, что если плюнуть наугад, то обязательно попадешь в какую-нибудь чеченскую морду. Однако попробуй, плюнь. Получишь в ответ пулю, кто бы ты ни был – мирный обыватель, мент, моряк, торгаш, распоследняя «шестерка» или хозяин области, достойный уважаемый человек, которого честная братва поставила здесь «смотрящим».
В последние годы «смотреть» приходилось в основном на них, на чеченцев. По всему краю шла настоящая война. Было за что воевать. Море, международный порт давали такую сверхприбыль, что если назвать точные цифры, голова закружится. Здесь все: дешевые японские автомобили, таможенные терминалы, нескончаемый поток товара, тонны деликатесной рыбы. Сюда можно вкладывать деньги, здесь их можно отмывать, превращать в чистое золото и в надежные тайные счета в швейцарских банках.
Чечены дрались за все это счастье не на жизнь, а на смерть. Им удалось купить и запугать всех – местную администрацию, бизнесменов, милицию, ФСБ. Только честная братва не поддавалась, держала оборону.
Они уже несколько раз по-всякому подъезжали к «смотрящему» Ковалю. Сначала были намеки, люди приходили к нему тихие, вежливые, предлагали выгодные варианты. Дипломаты, мать их. Научились. Потом дипломатия кончилась. Пришли в последний раз. Сказали все прямым текстом. Сообщили, что ему, Ковалю, хозяином сверхприбыльного края все равно не быть. И жить осталось считанные дни, раз не хочет делиться. Он послал их от души, крепко послал. Они ушли. А он начал отсчет оставшихся дней. И возненавидел себя за это – за слабость, за ледяной озноб.
Почему-то особенно бесило, что для последнего разговора пришел к нему не равный, не авторитет. Желая особенно больно оскорбить, чеченцы прислали к нему гнусную «шестерку», жирного Сайда, которому по рангу не положено было у честного вора даже ботинки почистить. Стоило Ковалю мигнуть своим ребятам, и толстая щетинистая морда Сайда застыла бы навек в своем золотом оскале. Но ведь не мигнул, стерпел или струсил. И не мог себе простить этого.
Ветер гудел в ушах. Михо стоял рядом, щурился, курил и говорил о важном, о рыбе, о японских машинах, о делах в портовой таможне. У него болели глаза, от ветра выступили слезы. Ветер нес ледяную соленую пыль, и соль моря смешивалась с солью слез. Михо подумал, что надо носить темные очки. Жена Вика, надменная красавица, которую он привез из Москвы и любил без памяти, несмотря на ее стервозный характер, в последнее время постоянно подшучивала над ним: ты что, плачешь, Михо? Я тебя обидела, маленького?
Впрочем, он не понимал, когда она шутит, когда говорит серьезно. Это сводило его с ума. Сквозь пелену слез Вика казалась неправдоподобно красивой. Знала, зараза, что у него больные глаза, что никогда он, Михо, не заплачет. А все равно издевалась. Или не издевалась, а наоборот, искренне жалела? Не понимал ее Михо. И за это еще сильней любил.
– Слушай, ты что, в натуре?! – произнес он бодрым голосом и хлопнул Коваля по сутулой кожаной спине. – Да мы их, гадов, так сделаем, что мало не покажется. Анекдот хочешь?
Коваль вяло кивнул.
– Сидят два фраерка в кабаке за разными столами. Один спокойно сидит, а другой все под стол смотрит. Ну, тому, второму, интересно стало, что там, у соседа под столом. Заглядывает он и видит теннисный корт. Настоящий, только маленький. Все, как положено – поле, сетка, человечки с ракетками бегают, мячик летает. Он спрашивает: слышь, мужик, это у тебя что? А тот говорит: я джинна себе купил по дешевке на распродаже. Любые желания исполняет. Что хочешь, проси. Этот ему: слушай, мужик, а можно, я попрошу? – Да на здоровье! Только громче проси, он глухой.
В зеркальном стекле проплыло отражение бронированного черного джипа. Михо замолчал на секунду. Ему показалось, что именно эту машину он уже сегодня видел. Однако его больные воспаленные глаза могли ошибиться, перепутать.
– Ну и вот, – продолжил он еще бодрей, – фраерок подумал и говорит: хочу десять миллионов баксов! Вдруг гром, трах-пах, начинают с потолка сыпаться факсовые аппараты. Фраерок ничего не понимает, а хозяин джинна ему говорит: я ж тебя предупреждал, он глухой. Кричать надо было громче. Я ведь просил для себя не теннис размером в двадцать сантиметров…
Тонкие губы Коваля растянулись в улыбке. Михо тоже заулыбался, ему нравился этот анекдот, хотя он слышал его и рассказывал сам раз десять. Зеркальный призрак черного джипа проплыл и растворился в соленом тумане. Что-то тихо хлопнуло, словно пробка вылетела из бутылки с шампанским. Михо удивился, что Коваль смеется беззвучно, и при этом странно, расслабленно оседает, валится на влажную панель.
– Ты что, брат? – успел произнести Михо и через долю секунды подхватил Коваля уже мертвого, с застывшей навек полуулыбкой, полугримасой.
Кабул, 1979 год
Белоснежная салюки бежала по грязному пустырю, мимо офицерского ресторана. Ослепительная чистота, балетная пластика и четкость линий. Все вокруг выглядело тусклым, серым, унылым. Казалось, здесь какая-то свалка или заброшенная стройка. Но ничего не строили. А свалка была везде. Грязь и вонь. Ни капли красоты, ни тени праздника. Никакой хваленой восточной экзотики. Кроме живописных гор на горизонте, ничего здесь не радовало глаз. Салюки попала сюда с другой планеты. Кирилл подумал, что это галлюцинация. А потом вспомнил, что меньше недели осталось до Нового года. И почему-то решил, что тонконогая красавица чудом выбралась из дворца Тадж-Бек, мрачного трехэтажного сооружения, похожего на старинную тюрьму.
Дворец стоял на высоком холме, вокруг – открытое пространство. Дорога к главным воротам обвивала ровной спиралью голый крутой холм. Дворец охраняли национальные гвардейцы, в основном родственники Амина. Их казармы на третьем этаже составляли первую, главную линию обороны. Оттуда они вели круглосуточное наблюдение. Кроме того, семь постов располагалось вокруг дворца. Это была вторая линия обороны. Каждые два часа караул менялся. Третья, внешняя линия – три мотопехотных и танковых батальона. Танки Т-54. Командир охраны майор Джиндад, выпускник Рязанского училища ВДВ. Можно сказать, почти свой.
Всего дворец охраняло две с половиной тысячи человек. Каким образом оттуда умудрилась сбежать собака, непонятно. Амин дорожил своими псами. Древняя арабская порода салюки была его любимой породой.
Салюки похожи на собак, изображенных на гробницах египетских фараонов. Они еще в глубокой древности сопровождали племена кочевников-бедуинов. Их возили на охоту на верблюдах, чтобы раскаленный песок не обжигал нежные лапы.
Для мусульман собака – животное нечистое, их не принято пускать в дома. Только салюки на протяжении многих веков давалось исключительное право жить в доме, под одной крышей с хозяином. Иметь салюки могли позволить себе лишь очень богатые и знатные мусульмане.
Как же удалось проскользнуть белоснежной красавице сквозь посты бдительных гвардейцев? Или это все-таки была галлюцинация? Конечно, что же еще?
Рядом с собакой Кирилл отчетливо увидел светловолосую девочку. Она прошла мимо окон вслед за салюки и исчезла в пыльном тяжелом мареве. Если собака еще как-то могла здесь оказаться, то девочка – нет. Ни за что.
Впрочем, в голове у Кирилла тут же сложилась фантастическая история: она устроилась медсестрой в передвижной советский военный госпиталь. Он ясно представил себе, как он там лежит раненый, а она склоняется над ним, гладит по стриженой голове, целует, шепчет что-то ласковое.
Отправляясь в Кабул в составе группы «Зенит», курсант Кирилл постоянно думал о своей рождественской девочке. Он знал, что зовут ее Виктория. После той новогодней ночи ему удалось увидеть ее всего один раз, в июне. Тополиный пух напоминал крупный снег, и потому опять она возникла внутри белого облака. Пух был подсвечен закатным солнцем, и опять вокруг нее образовалось нечто вроде сияния.
Он заехал к бабушке попрощаться. Ему предстояло отправиться на десантные учения на секретный полигон в Балашихе. Вику он увидел, когда вышел покурить на балкон. Она гуляла со своей салюки. На ней были голубые узкие джинсы и белая свободная футболка. Длинные волосы небрежно подколоты. Кирилл бросился в комнату, открыл ящик стола, схватил дедовский полевой бинокль.
– Ты что? – удивилась бабушка.
– Ничего. Я так. Мне нужно проверить, в порядке ли оптика. Я возьму с собой, ладно? Нам выдают, но этот лучше, к тому же дед говорил, что он приносит удачу.
Кирилл болтал какую-то ерунду, пока рассматривал в бинокль свою девочку. Старая оптика была в полном порядке. Он различил каждую черточку ее лица, самого красивого из всех женских лиц, какие когда-либо существовали на свете. И тут опять зазвучал новогодний вальс из «Щелкунчика». На этот раз музыку просто передавали по радио. Оставалось выбежать во двор, подойти, заговорить. У него уже давно не было проблем с передними зубами. В закрытой поликлинике при Высшей школе КГБ работали отличные стоматологи. Кириллу поставили шикарные крепкие коронки, улыбка его стала неотразимой. Свой последний свободный вечер перед отъездом он мог бы провести с ней, с рождественской девочкой.
– Ты куда? – успела крикнуть ему вслед бабушка.
Овчар Дик залаял удивленно и сердито.
– Я сейчас! – крикнул Кирилл.
Он не стал ждать лифта, рванул пешком по лестнице. Сердце колотилось у горла. Он чуть не упал, поскольку на ногах у него были разношенные рваные шлепанцы деда. Когда вылетел из подъезда, Вики во дворе уже не было.
– Это нехорошая семья, – сказала бабушка, – отец сидел. Он крупный воровской авторитет. Возможно, сядет опять. Старший сын фарцовщик, мать…
– О чем ты, ба?
– Ты знаешь, о чем я, Кирюша. Не забывай, пожалуйста, где ты учишься и кем собираешься стать. Вот тут я положила тебе палку сырокопченой колбасы, нам давали на 9 мая в ветеранских заказах. И шерстяные носки. Я связала их из шерсти Дика, они лечебные. Надевай на ночь, если малейший насморк. В жару тоже может продуть, еще хуже, чем в холод, особенно в вертолете.
Он уезжал надолго. Если честно, сам не знал, на какой срок, и вообще, имелся серьезный шанс не вернуться живым. Сразу после учений его отправляли в Афганистан.
С легкой руки полковника Бояринова, преподавателя спецкафедры Высшей школы КГБ по диверсионной работе, курсант Кирилл попал в группу «Зенит».
Группа набиралась из курсантов Высшей школы и была одним из спецподразделений ПГУ (внешняя разведка). Кирилл Петров оказался самым молодым в ней. Младше двадцати двух не брали. Но полковник Бояринов настоял на его кандидатуре. Курсант Петров, правда, отлично учился и являл собой образец бойца-разведчика, почти плакатный, почти нереальный образец. Он сам себя так выдрессировал. Ради тщеславия, ради дикого мальчишеского азарта, он сотворил из себя, живого, нечто вроде боевой машины, железного робота. Ему хотелось быть лучшим. Дослужиться до генерала годам к сорока. А теперь к этой заветной цели прибавилась еще одна – жениться на рождественской девочке. Он догадывался, что в принципе одно с другим несовместимо. Офицеры КГБ не женятся на дочках уголовников.
Конечно, белая салюки была галлюцинацией. Она не могла сбежать из дворца Тадж-Бек. Ей нечего было делать здесь, на грязном сером пустыре, у облезлого здания, на котором так нелепо выглядела помпезная вывеска «Ресторан Шаратон», по-английски, и по-русски. И рождественская девочка Вика никак не могла оказаться здесь, даже в качестве медсестры. Она жила в Москве и училась в десятом классе. Скоро Новый год. Возможно, в новогоднюю ночь она опять выйдет с собакой и будет танцевать вальс в пустом заснеженном дворе. А его не окажется рядом. И кто-то другой, более решительный, подойдет к ней.
Если бы кто-то подошел к ней при Кирилле, он бы убил, наверное. Ему в последнее время постоянно снился один и тот же сон: пустой двор, Вика со своей собакой. Из подворотни появляется шпана. Двое, пятеро или десять человек – не важно. Курсант Петров укладывает в снег всех, спасает ее, и она благодарно улыбается, а потом он провожает ее до подъезда, и они долго стоят, разговаривают, смотрят друг на друга. Именно на этом сон всегда обрывался. Он так и не мог понять, о чем они с Викой говорили, что было дальше, поцеловала она его на прощанье или нет.
В ресторане сидели офицеры спецподразделений. Афганским друзьям было сказано, что офицеры хотят обсудить встречу Нового года и заказать столик. На самом деле, они обсуждали, как убить Амина, который вышел из-под контроля и заигрывает с американцами.
Решение об его ликвидации было принято в Кремле. Афганистан являлся «зоной жизненно важных интересов» СССР. Общая граница протяженностью две с половиной тысячи километров. Богатейшие залежи урановой руды в Таджикистане, на Памире.
Первые два покушения сорвались. Сначала руководство КГБ наняло для выполнения секретного задания государственной важности афганских террористов. В результате их атаки Амин был легко ранен, и только усилилась бдительность охраны. Вслед за террористами в игру вступила группа спецназа КГБ СССР. Два БТРа поджидали Амина на маршруте его движения к дворцу. Но диктатор появился на трассе в сопровождении пяти танков. Силы оказались неравными. Операцию пришлось отменить, так и не начав ее. Тогда было принято решение взять Тадж-Бек штурмом. Боевые действия планировали начать в момент ввода в Афганистан ограниченного контингента советских войск, о чем, кстати, настойчиво просил сам Амин.
Разработанный план назывался «Шторм-333». Ввод советских войск начался 25 декабря. В течение двух суток было сделано более трех с половиной сотен авиарейсов. На аэродроме «Баграм» приземлялись военно-транспортные самолеты с людьми и техникой. Почти восемь тысяч человек. Сорок из них погибло сразу. Самолет разбился при посадке.
Ресторан «Шаратон» находился в нескольких сотнях метров от дворца. Из окон отлично просматривалась часть крутого холма, дорога, танки, врытые в землю вдоль нее. Офицеры не говорили о том, что открытый штурм невозможен. Это и так было видно.
– У меня есть маленькая елочка, – сообщил хозяин заведения на неплохом русском.
Лицо его лоснилось и казалось слишком светлым для афганца. На мизинце сверкнул крупный бриллиант. Во рту все зубы золотые. Улыбка противная, заискивающая, напряженная. Наверняка учился в России, где-нибудь в тихой провинции. Может, и жену себе привез оттуда. Русская жена для них – предмет особенной гордости.
– И еще, у меня есть музыка Чуковского.
– Чайковского, – поправил один из офицеров.
Хозяин закивал, буквально растекаясь в улыбке, щелкнул пальцами, и в маленьком зале, пепельном от сигаретного дыма и пыли, скопившейся за многие годы в тускло-вишневых коврах, зазвучал вальс из «Щелкунчика».
Кирилл закрыл глаза. Ему хотелось вернуть свою галлюцинацию, увидеть хотя бы на секунду рождественскую девочку Вику. Слишком все здесь было уродливо, безнадежно. Ни снега, ни праздничных огней, ничего, кроме окаменелого серого песка, нищеты и смерти. Смерть подстерегала на каждом шагу, она прикидывалась ребенком, стариком, песчаным холмом, пыльным лоскутом дороги. Здесь был ад, хотя штурм еще не начался, и внешне все выглядело вполне мирно.
Рождественская девочка не появлялась. Он думал о ней, он пытался воссоздать в памяти ее лицо, но видел только снег или тополиный пух. Видел бабушку, овчара Дика, уютный двор в центре Москвы, на Волхонке. Этого было достаточно, чтобы слегка прийти в себя, несколько мгновений отдохнуть от серой адской тоски Кабула.
27 декабря Амин устроил в своем дворце официальный прием по случаю ввода советских войск. Нелегал, подполковник КГБ, азербайджанец, в совершенстве владевший фарси, был заранее внедрен в близкое окружение диктатора, и как раз в конце осени 1979-го ему удалось получить почетное место дворцового повара.
Именно он подсыпал яд в еду Амину во время торжественного обеда. А потом был разыгран спектакль. Явились советские врачи, стали оказывать Амину помощь. Когда ему промывали желудок (процедура интимная, неэстетичная и вонючая), начался штурм.
«Ты ведь понимаешь, что тебе там придется убивать по-настоящему? Думаешь, ты готов к этому? Ты, отличник боевой и политической подготовки, готов всаживать пули в чужие головы и животы?»
Никто не задавал Кириллу этих вопросов. Никто бы не решился. Он самому себе их задал. Но отвечать и, вообще, думать уже не осталось времени.
По дворцу прямой наводкой били зенитки. Снаряды не пробивали толстые стены, они рикошетили, лупили по своим и только мешали штурму. БТР, на котором ехал к дворцу Кирилл, был подбит почти сразу, и остаток пути до «мертвой зоны» возле центрального входа пришлось бежать, пригнувшись, под шквальным огнем гвардейцев Амина. Рядом с Кириллом падали его товарищи. Земля тряслась под ногами. Бежать и стрелять, больше ничего не оставалось. Никакого тыла не было. Позади пустыня, впереди смерть. Силы оказались неравными. За спиной каждого убитого гвардейца вставали еще трое, четверо и поливали все вокруг автоматным огнем, швыряли гранаты. Их, афганских гвардейцев, оборонявших дворец, было в четыре раза больше, чем советских спецназовцев, штурмовавших его. По всем законам воинской науки при таком соотношении атаковать нельзя. Однако атаковали, перли вперед, сами не зная, зачем, ради чего.
Кирилл не помнил, как оказался внутри. Там шел бой за каждый метр. Сквозь грохот стрельбы он услышал крик полковника Бояринова у самого уха:
– Связь! – орал полковник. – Связь, твою мать! Пошли!
Кирилл понял, что надо взорвать узел связи. Если гвардейцы вызовут подкрепление, то все. Никто из спецназовцев живым из этого ада уже не вырвется.
Лицо полковника было черным, только глаза и зубы сверкали. Дверь, обитую сталью, удалось открыть, прошив замок очередью. Попутно Кирилл успел уложить двух гвардейцев.
– Молодец! – рявкнул полковник.
Они принялись выдергивать шнуры из розеток, бить прикладами телефонные аппараты, Кирилл вытащил нож, чтобы разрезать несколько толстых кабелей, о которые чуть не споткнулся.
– Нет! – крикнул полковник. – Гранатами забросаем!
Быстро покидали гранаты, закрыли дверь, успели упасть на пол. Когда рвануло, Кирилл решил, что все. Его нет больше. Звук взрыва оборвался, стало странно тихо. Вокруг летали какие-то белые хлопья, и внутри облака на мгновение появилось лицо Вики. Она улыбнулась ему, помахала рукой и тут же исчезла. Кириллу показалось, что опускается крышка гроба. Он успел удивиться, почему его хоронят так скоро, прямо здесь, в коридоре дворца. Что-то резко толкнуло его в бок. Он откатился, и в этот момент крышка, то есть оцинкованная дверь узла связи, выбитая взрывной волной, бесшумно рухнула на пол, именно туда, где он лежал секунду назад, уверенный, что уже умер.
– Цел? Вставай, мать твою! Чего разлегся?! – орал Бояринов.
Кирилл не слышал его голоса, но понимал по губам. Их специально учили этому, совсем недавно. Он смотрел на рот полковника, залитый кровью. Во время штурма от взрывов у многих бойцов начинала идти кровь из носа и ушей.
– Я ничего не слышу! – закричал Кирилл.
По тому, как поморщился и отпрянул полковник, он понял, что вопит во всю глотку. Но вместо собственного голоса для него звучала все та же странная волнистая тишина.
– Ерунда! Контузия! – беззвучно ответил Бояринов.
Они поднялись и помчались по коридору. По дороге вышибали ногами двери, швыряли гранаты, а когда гранаты кончились, прошивали каждую комнату автоматными очередями. Внезапно выбежали в большой зал. На полу под ногами хрустело стекло. Полковник успел дернуть Кирилла за руку, чтобы тот не открыл стрельбу. В глубине была стойка бара.
– Отставить, – скомандовал полковник, – там наши.
Далее перед Кириллом разыгралась немая сцена. Из-за стойки появилась лысая голова. На лице марлевая маска, почерневшая от копоти. Потом еще голова, с седым ежиком волос, без маски. Кирилл узнал доктора Кузнечикова, с которым летел в Кабул в одном самолете несколько дней назад. Кузнечиков что-то говорил. Бояринов молча слушал, кивнул пару раз. И тут из-за стойки вышел третий человек. Черный, широкий, с большим грубым лицом, украшенным жирной полоской усов. На нем не было ничего, кроме белых трусов с надписью «Адидас» и голубой рваной майки. Он был весь покрыт курчавой черной шерстью. В поднятых руках держал флаконы капельниц с физраствором. Из подмышек торчали густые волосы, как две курчавые бороды. В вены все еще были воткнуты иглы.
Кирилл понял, что перед ним Амин. Кузнечиков и второй врач подошли к голому диктатору и осторожно извлекли из его вен иглы, приклеенные кусочками пластыря. Амин кричал, но из-за усов Кирилл не мог разглядеть его рот и прочитать по губам. Через минуту рядом появился гвардеец в нарядной, но грязной форме и что-то сказал Амину. У того перекосилось лицо, он оскалился, схватил первое, что попалось под руку, тяжелую железную пепельницу, и запустил в гвардейца. Тот едва успел увернуться.
И тут началась стрельба. Кирилл не услышал, а почувствовал, как завибрировал воздух. Позади стойки было еще две двери, в них ворвалась свежая партия гвардейцев.
Бояринов открыл рот, хотел крикнуть что-то, но упал, увлекая за собой Кирилла. Полковника прошило очередью. Падая, он вцепился в курсанта и тем самым спас ему жизнь. Пуля, предназначенная Кириллу, попала не в грудь, не в голову, а всего лишь в плечо.
Он очнулся в санитарном самолете, и вокруг была все та же волнистая гулкая тишина. Узнал, читая по губам, что Бояринов погиб, что штурм дворца длился всего лишь сорок пять минут. Амин убит в перестрелке. Операция прошла успешно, несмотря на значительные потери среди личного состава, и тем, кто уцелел, светят ордена и звездочки на погонах.
Слух вернулся к нему в госпитале. Он услышал бой курантов по радио, хлопок пробки, смех, звон бокалов. Дежурные сестры чокались шампанским прямо в палате.
– Ну, хочешь? Глотни! С Новым годом тебя!
Над ним с бокалом в руке стояла его рождественская девочка. Белый халатик туго стянут поясом на тонкой талии. Из-под шапочки выбилась длинная пепельная прядь.
– Вика, – прошептал он.
У него было все в порядке со слухом. Он даже слышал, как шипит сладкая пена в бокале. Но вот зрение ему изменило.
– Меня Тамара зовут, – обиженно сказала сестра.
На самом деле, из-под ее шапочки выбивалась не пепельная, а рыжая прядь, и глаза были не дымчато-голубые, а зеленые. Веселая рыжая толстушка Тома, курносая, круглолицая. Конечно, он должен был узнать ее, она делала ему уколы, давала таблетки. Но в первую минуту наступившего 1980 года на край его койки присела Вика, и бокал с новогодним шампанским поднесла к его губам рука рождественской девочки.
Владивосток, 1998 год
Артур Иванович Шпон считал себя не просто интеллигентным человеком, а настоящим профессором, доктором психологии и прирожденным дипломатом. При иных обстоятельствах он мог бы стать послом в какой-нибудь культурной европейской державе, министром, тайным советником президента, либо, в крайнем случае, мог читать за большие деньги умные лекции где-нибудь в Оксфорде. Но родители Артура Ивановича были людьми бедными, необразованными, пьющими, а точнее, из родителей у него была только мать, уборщица портового ресторана, тихая, грязная, с красным носом и жалобными мутными глазами.
Артур еще в детстве сочинил для себя совсем другую семью. Напевно, со слезой в голосе, он рассказывал всем любопытствующим, что мама у него была киноактриса неземной красоты, а отец – летчик-испытатель неземной отваги. Оба трагически погибли во цвете лет, когда он, Артурчик, был еще в пеленках, и усыновила его бедная женщина, уборщица Клавдия.
Не столь важно, верили другие этой сказке или нет. Главное, он сам верил в некое свое иное предназначение, в благородное происхождение, в золотой старинный перстень с бриллиантом, спрятанный в кружевных пеленках загадочного подкидыша, который заливается плачем на нищенском крылечке.
Чтобы выжить в жестоком мире Владивостокского порта, среди докеров, проституток, воров и воришек всех возрастов и рангов, мало было красивых сказок. Следовало обладать либо физической силой, либо недюжинным интеллектом. Артурчик физически был хлипок, слаб, к тому же трусоват, и постоять за себя не мог. А вот с интеллектом у него дела обстояли отлично. Не беда, что среднюю школу он окончил со справкой вместо аттестата. Для настоящей жизни нужна была совсем другая арифметика. Порт задавал свои задачки, диктовал свои диктанты, и экзамены Артурчику приходилось сдавать ежедневно, лет с семи.
Организованная преступность существовала в Приморье еще в начале семидесятых. Портовый город Владивосток был одним из центров старой доброй российской «фарцы». Моряки привозили из загранплаваний и продавали на толкучке все, от жвачки до подержанных японских автомобилей. Сами собой сколачивались небольшие крепкие команды, которые с успехом отнимали незаконно привезенный товар и незаконно заработанные деньги. При сопротивлении могли избить до полусмерти. Жертвы грабежей, моряки и фарцовщики, в милицию не обращались. А кроме милиции в те славные времена защитить ограбленного и наказать грабителя было некому. Появилось даже специальное название для крепких дружных ребят: «третья смена».
Постепенно грабительская стихия вошла в организованное русло. С моряков и фарцовщиков стали аккуратно брать дань. Сейчас это называется рэкет. Еще в тихие советские времена именно он, родимый, был хозяином нелегального рынка, а по сути – всего Владивостока, ибо в портовом городе загранплавания и фарца являлись неотъемлемой частью жизни каждой второй семьи.
Хилому сыну уборщицы было тяжело определиться. В команды Артурчика не брали. Кому нужен такой хлюпик? Заниматься фарцой не получалось. Торговать Артурчик не любил и не умел. Мореходка ему не светила. А жить как-то надо было. И он стал завоевывать себе место под соленым приморским солнцем по-своему, потихоньку, без удали и блатного нахрапа.
Щуплый, незаметный, он крутился в порту и на рынке, влезал в самые потаенные уголки, умудрялся слушать самые секретные разговоры, часто становился свидетелем всяких разборок, подстав, тайных заговоров, коварных интриг и кровавых предательств. В порту кипели шекспировские страсти, и маленький Артурчик знал, кому какая отведена роль в этой блатной драматургии.
Для него не существовало непонятных, загадочных людей и ситуаций. Он знал все про каждого, с первого взгляда мог безошибочно определить, кто сколько стоит, за кем какие имеются провинности перед блатным законом, кто за что сидел, а если не сидел, то сядет, а если не сядет, то сразу ляжет с кусочком свинца в башке.
Уникальный талант Артура заключался далее не в том, что он умел собирать и оценивать необъятную, путаную, смертельно опасную информацию об уголовной жизни Владивостокского порта, а в том, что до поры до времени он умудрялся держать все это неслыханное богатство при себе, в своей маленькой белобрысой ушастой голове, и не пользоваться, не транжирить по мелочам.
Капитал должен стать очень солидным, чтобы с него можно было получать солидный процент. Искушения возникали часто, но Артурчик был тверд. Он тихо, упрямо, как шекспировский Шейлок, как пушкинский Скупой Рыцарь, копил свой капитал и ждал.
К концу восьмидесятых бандитский мир Приморья встал с ног на голову, как и вся Россия. К этому смутному, непонятному времени во Владивостоке уже насчитывалось около десяти устойчивых, отлично организованных группировок. У рэкета появились новые, восхитительные перспективы. Первые кооператоры, игорный бизнес, сутенеры. В общем, было, где развернуться, и было, отчего потерять голову.
Спокойно оглядевшись и проанализировав ситуацию, Артурчик нашел, наконец, надежную собственную нишу в этом сверкающем хаосе.
Любой товар сегодня дорожает, а завтра дешевеет, ржавеет, тухнет, гниет или просто выходит из моды. Но есть один, который никогда не обесценится, и всегда будет пользоваться неизменным спросом. Смерть.
Нет, сам Артур убивать никого не собирался. Но накопленная уникальная информация и ежеминутная острая наблюдательность позволяли ему заранее просчитать, кому кого понадобится устранить в ближайшее время, кто и за какую сумму сможет это сделать. Опасная и невыгодная на первый взгляд профессия посредника между заказчиком и наемным убийцей была как будто специально создана для Артура Шпона. Он работал со стопроцентной гарантией. Во всем Приморье не было у него конкурентов, а если появлялись, то сгорали очень быстро, без всяких усилий с его стороны, ибо такими знаниями, таким чутьем, как он, не обладал никто.
Профессия посредника, или «диспетчера», действительно требует академических мозгов. Это только кажется, что организовать толковое, совершенно латентное убийство несложно. Институт наемных киллеров, не успев зародиться, оброс такими толстыми слоями мифов, слухов и домыслов, что добраться до сути, до некоего свода реальных законов и правил игры, практически невозможно. Их просто нет, этих законов и правил.
Например, считается, что контрольный выстрел в голову и оружие, оставленное на месте преступления, – это непременные атрибуты заказного убийства. Но на самом деле, для одного исполнителя контрольный выстрел в голову является чем-то вроде элегантного автографа. А другой просто не сумел убить с первого попадания, потому что плохо стреляет.
Что касается оружия, то настоящий профессионал использует, как правило, спецоружие. А такого мало, и основные источники его компетентным органам известны. Так стоит ли бросать спецствол на месте преступления? Не разумней ли уничтожить его где-нибудь подальше, уничтожить совсем, чтобы никогда не нашли?
Считается, что существуют некие секретные школы, закрытые базы, куда заманивают воинов-афганцев, ветеранов Чечни, отставных офицеров милиции и ФСБ, бывших спецназовцев и спортсменов. Они, конечно, существуют, но век их недолог, и еще короче век тех, кто их организует. Любую, даже самую законспирированную организацию значительно проще вычислить, чем отдельного частного человека, а потому нанимать киллера из спецшколы опасно и невыгодно. Хороший специалист-баллистик может по манере стрельбы определить, где стрелок учился своему ремеслу. А отсюда недалеко и до самого стрелка, и до его учителей, которые часто становятся посредниками.
Кстати, если бы кто-то из этих горе-совместителей спросил бы совета у Артура Шпона, то услышал бы одно: не лезь не в свое дело. Посредничество должно быть единственной профессией. Совмещать его нельзя ни с чем.
Так что мифы при ближайшем рассмотрении оказываются настолько недостоверными, что даже неинтересно их повторять. Но есть один, главный: грамотное заказное убийство невозможно раскрыть, и уж тем более – предотвратить. Для Артура Шпона эта истина являлась святой и незыблемой. Усомниться в ней значило потерять веру в самого себя.
Когда был убит «смотрящий» Приморья Коваль, Артур насторожился. Крупный выгодный заказ прошел мимо него. Он, разумеется, знал, кто и почему, и от этого было еще обидней. Чеченцы, такие серьезные перспективные заказчики, еще ни разу не обратились к нему, работали сами. Это наводило на грустные размышления. А грустить Артур не любил. И он начал действовать.
Ему стало известно, что нового «смотрящего» Михо обхаживают так же, как недавно Коваля. Он был уверен, Михо ни на какие компромиссы с чеченцами не пойдет, а следовательно, в ближайшее время его ждет такая же участь, как и предшественника.
Нельзя было допустить, чтобы этот заказ ускользнул из рук. Дело даже не в деньгах. Дело в перспективах. Если Артур выполнит работу толково, быстро и чисто, чеченцы непременно обратятся к нему вновь. Он станет им нужен. Необходим. А ради этого можно пойти на многое. Рано или поздно именно чеченцам будет принадлежать Приморский край. Да что край, вся Россия.
Артур знал, что у нового «смотрящего» больные глаза, и догадывался, что лечить свои бесценные очи Михо будет скорее всего в Москве, в клинике всемирно известного офтальмолога. Это было бы огромным везением для Артура. И он нашел способ убедить чеченцев, что разумней убрать Михо именно в Москве, чтобы не поднимать здесь, в Приморье, вторую волну, ибо не утихла еще первая, вспухшая после убийства Коваля. Да и вообще, такие дела лучше делать на чужой территории.
Чеченцы подумали, посовещались и согласились.
Кабул, 1983 год
Мальчишка-афганец выскочил внезапно, как черт из табакерки. Маленький чумазый чертенок лет четырнадцати. Огромные, как черные сливы, глаза. Драный засаленный халат с чужого, взрослого плеча. Из широких рукавов торчат грязные худые, как ветки, ручонки. В ручонках гранатомет.
БТР не мог развернуться в узком проеме между саманными домами, не мог вот так, сразу, дать задний ход. Ребенок держал тяжеленное орудие вполне по-взрослому и скалил крупные белые зубы, улыбался, смеялся над четырьмя русскими солдатами, которых намерен был уничтожить через секунду. Кирилл успел подумать, что стрелять это дитятко умеет отлично.
Потом ему многие годы снилось, как тощая фигурка в драной хламиде падает в горячую пыль. На самом деле это длилось не больше сорока секунд, но во сне каждый раз тянулось бесконечно. В ушах сухо трещала автоматная очередь. Ребенок ронял тяжелое орудие и падал мучительно медленно. Раскаленный воздух дрожал и слоился, жестокое афганское солнце било в лицо, отражалось в застывших глазах, огромных, как сливы.
Кирилл успел выстрелить раньше на долю секунды. Он всего лишь успел выстрелить. В БТРе, кроме него, было еще трое. Гранатомет разнес бы в клочья всех четверых.
Кирилл уже давно потерял счет убитым. Он стрелял, чтобы не выстрелили в него и в его товарищей. Его мир был четко, грубо поделен на своих и чужих. Он перестал задавать себе вопросы: зачем, по какому праву? Однажды, ответив самому себе наспех, пафосной фразой из популярного советского фильма: «Есть такая работа – родину защищать», он уверился в своей абсолютной правоте, в профессиональном праве убивать. Пафосные фразы за тем и нужны, чтобы отучить думать.
Но ребенка он убил впервые.
Конечно, это был не ребенок, а бандит. Душман с гранатометом. И действия его любой военный счел бы вполне оправданными. Кирилл спас не только собственную жизнь, но и жизни трех своих товарищей.
Ночью он с удивлением обнаружил, что не может уснуть. Обычно он выключался сразу, стоило уронить голову и закрыть глаза. Он мог спать сидя, под рев мотора, под шум разговоров. А тут вдруг, в полной тишине, на удобной койке в офицерской казарме, на чистом белье, после хорошей порции водки, он лежал и таращился в потолок.
По потолку скользили причудливые тени. Снаружи, возле окна, качался под ветром фонарь. Как на экране, на потолке стало проступать лицо Вики. Сначала изображение было плоским, зыбким, но постепенно обрело четкость, объем, наполнилось яркими красками. Рождественская девочка была здесь. Она выглядела точно так же, как пять месяцев назад, когда он в очередной раз увидел ее в Москве, на Рождество.
Бабушка, принципиальная атеистка, коммунистка, вдова советского офицера, вдруг стала потихоньку ходить в церковь, молиться, жечь свечки перед иконами. Эта перемена произошла с ней после первого афганского ранения Кирюши при штурме дворца Тадж-Бек. На тумбочке возле бабушкиной кровати стояла маленькая иконка Иверской Божьей Матери. На шее у бабушки поблескивала серебряная цепочка.
– Там что у тебя, крест? – спросил Кирилл с кривой противной ухмылкой.
– Да, – ответила бабушка и густо покраснела, – скоро великий праздник. Рождество. Я бы хотела, Кирюша, чтобы ты пошел со мной в храм.
– Ба, ты с ума сошла?
Нет. Пока нет. Не бойся. Знаешь, сейчас многие матери, бабки, сестры и жены таких, как ты, ходят в храм, молятся потихоньку, как могут.
– Зачем?
Бабушка молчала довольно долго, смотрела мимо него, на икону. Кирилл впервые заметил, как она постарела. Бросила красить волосы в каштановый свет и стала совершенно седая. Под глазами серые мешки, и все лицо серое, сухое, как потрескавшаяся мертвая земля.
– Очень страшно, Кирюша, – произнесла она, наконец, так тихо, что он не услышал, а прочитал по губам.
– А ты представляешь, что со мной будет, если кто-то стукнет? – спросил он и не узнал собственного голоса, который стал почему-то высоким, даже визгливым, и гнусным, как скрип железа по стеклу.
– Не бойся. Они сейчас смотрят на это сквозь пальцы. Им важно, чтобы ты воевал.
– Им? Они? Ба, ты вспомни, кем был дед? Кем был мой отец, твой сын?
Твой дед был чекистом, расстреливал священников. Твой отец стал сильно пить после того, как одним из первых въехал на своем танке в Прагу в шестьдесят восьмом. Он напивался и бил мать. Ты уже учился в Суворовском, приезжал домой только на выходные и на каникулы. При тебе они кое-как держались. А потом мы с дедом стали забирать тебя к себе. Ты месяцами не появлялся дома, не видел родителей. Сначала скучал по ним, потом привык, перестал задавать вопросы. И, когда произошло то, что произошло, для тебя это не стало глубоким горем.
«Произошло то, что произошло». Бабушка не решилась сказать больше. Она, жена чекиста, никогда не называла вещи своими именами. Она привыкла к иносказаниям, к намекам, к молчанию, к фальши и вечному страху сболтнуть лишнее.
На самом деле, родителей Кирилла нашли убитыми на казенной даче. Они оба были застрелены из пистолета отца. Убийство и самоубийство. Кто это сделал, отец, упившийся до белой горячки, или мать, озверевшая от пьяных побоев, до сих пор не известно. Кириллу тогда как раз исполнилось четырнадцать. По официальной версии произошел несчастный случай. Герой Советского Союза, кавалер полудюжины орденов, полковник Петров пытался починить поврежденную электропроводку, жена помогала ему, и их обоих убило током.
Правду Кирилл узнал через три года, когда ему было семнадцать. Дед умирал от инфаркта в Кремлевской больнице. Он лежал, весь в капельницах, синий, иссохший. Уже неделю он не мог говорить, только мычал и водил глазами. Кирюша пришел к нему, принес какое-то протертое пюре, овсяный кисель.
Дед посмотрел на него, призывая выразительным ясным взглядом наклониться к нему поближе. Тусклым, уже неживым голосом, без всяких эмоций он выложил внуку историю семейного кошмара. Очень тихо, чтобы не услышали соседи по палате, и четко, по-военному.
– Ты должен знать правду. Лучше от меня. А то вдруг потом какая-нибудь чужая сволочь это тебе выложит. Обещай, что пить никогда не будешь.
– Я и так не пью, ты же знаешь, – пробормотал Кирилл.
Он держал деда за руку. Кисть у деда была синяя, ногти почти черные. Пальцы так исхудали, что обручальное кольцо болталось на безымянном. И вдруг оно соскользнуло прямо в ладонь Кириллу.
– Береги бабушку, – прошептал дед, – не пей водку, не стреляй в детей и женщин. Никогда. В мирное население… не стреляй…
Дед отключился. Кириллу почудилось, что в палате вдруг сильно похолодало. Он вызвал сестру. За ней прибежали врачи. Его выгнали. Он долго стоял в коридоре, опустился на корточки, прижался спиной к батарее и все никак не мог согреться. Примерно через час явился врач и сказал, что дед умер.
С бабушкой Кирилл ничего не обсуждал. Они вообще не говорили об его родителях, словно их не существовало. И тут вдруг она решилась. А потом, не отрывая глаз от иконы, сделала несколько шагов к тумбочке, опустилась на колени, открыла ящик, достала из самой глубины небольшую деревянную шкатулку, протянула ему: