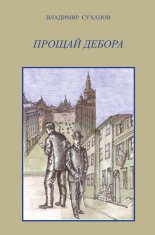Des Cartes postale Гайнутдинов Тимур
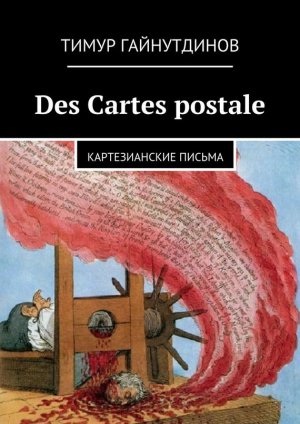
Пролог
«La Carte postale: de Socrate Freud et au-del».1 Почему Деррида не указывает в качестве адресата Декарта? Он с трудом узнается даже в этом безличном «et au-del» в русском переводе (страдающем неточностью и близорукостью очевидными уже в заглавии) несколько уничижительно переданном «и не только». «Au-del» – в большей степени все же «по ту сторону», «дальше», «за», но также и «в потустороннем мире» или, даже, «загробной жизни», так что, быть может, мы все же ошиблись, и «au-del» – это как раз отсылка к Декарту с его «только что отрубленными головами», которые, «хотя уже не одушевлены», «продолжают двигаться и кусать землю»2, злословить, покрывая пространство листа все новой смыкающейся плотью чернил; водные знаки бумаги верже, как распаханное поле с продольными бороздками – движение кисти в отсутствии кисти: язык, зубы, гортань наполняются чернилами плоти. «Au-del» – загробный мир Декарта, одновременно de et del, здесь и там, подобно крови, идущей горлом в час пробуждения. Вот что чувствовал Декарт: au-del de et del зимой 1650 года в Стокгольме, направляясь, день за днем, к пяти утра к Шведской королеве Кристине. Rentus – вновь рожденный, пробужденный, о чем писал уже Мамардашвили3. Но зимой 1650 года кровь начинает пробуждать себя прежде речи, обнаруживает себя на языке прежде слов: «на этот раз пора уходить»4. «На этот раз», – в смысле очередности, потерявшей счет, тяжесть дыхания сдавленной грудной клетки. Rentus есть также и воскрешение, как у Квинта Горация Флакка: «multa renascentur, quae jam cecdre, cadentque quae nunc sunt in honore vocabula» – «многие, уже забытые, слова воскреснут и придут в забвение [многие из тех], которые теперь в чести». Воскресают слова и отрубленные головы продолжают злословить, разъедая память. Не La Carte postale, но скорее Des Cartes5 postales. Des Cartes postales, как особый жанр, о котором и сейчас еще слишком часто забывают. Об особости этого жанра пишет (конечно, говорит, но мы читаем, скорее сличая с листа, как читают по-губам: шуршание листа взамен беззвучному движению губ6) в «Картезианских размышления» Мераб Мамардашвили: «…в его [Декарта] письмах перед нами предстает тайный и тем самым действительный Декарт, говорящий с нами из некоего пространства, которое Шарль Фурье позже назвал «абсолютным отстранением»; из пространства, так сказать, подвеса, зазора»7. Итак, из этого почтового просвета, из пространства отстраненности письма перед нами появляется «действительный Декарт» (оставим пока это выражение, – «действительный Декарт», – едва замеченным, едва попавшим на плоскость листа, лишь мимоходом отметив, что Декарт, видимо, может быть недействителен, подобно недействительному договору, или просроченному проездному билету, чей срок действия истек вместе с отпущенным ему временем). Парадоксальным образом отстранение и зазор способны вывести нас к картезианским тайнам, а значит и раскрыть саму тайну близости: бесконечно далекий, но также и сокровенно близкий.
Но дело в другом: в этих письмах Декарт «говорит с нами», он обращается к нам. Вот в чем дело. Письма дошли до нас, несмотря на медлительность и путаницу с адресатом (да и чего еще ждать от почты?). Письма, превращенные в почтовые открытки (des cartes postales), то есть, буквально, открытые письма или вынужденные стать таковыми, обращенные к нам «из пространства подвеса, зазора». Впрочем, само письмо есть пространство подвеса, принимающее возможность задержки пополам с опасностью утраты. Оно включает в себя эти риски, как почтовая марка – расходы на доставку. Деррида прав: «Великие мыслители также являются мастерами почты. Уметь хорошо играть с почтой до востребования. Сказаться отсутствующим и проявить силу, чтобы не оказаться там в ту же секунду. Не поставлять по заказу, уметь ждать и заставлять ждать так долго, сколько потребует та самая сила, заключенная в себе, – до смерти, ничего не усвоив из конечного назначения. Почта всегда в ожидании, и она всегда до востребования»8. Следовало бы добавить также: почта неизбежно встраивает себя в отношения наследования. Сам ее смысл, вопреки очевидности, заключается вовсе не в преодолении географии, но, исключительно, работе наследования, и поэтому почта не столько связывает пространство, сколько организует преемственность, «как у королей и герцогов после смерти главы семьи его титул переходит к сыну и сын из герцога Орлеанского, принца Тарентского или принца де Лом превращается во французского короля, в герцога де ла Тремуй или в герцога Германтского, так часто по праву наследования иного порядка, имеющему более глубокое основание, мертвый хватает живого, и живой становится его преемником, похожим на него, продолжателем его прерванной жизни»9. Прежде чем наследник овладеет наследством, наследство уже должно овладеть им. Можно назвать это условием наследованием или его последовательностью, но она всегда такова, что наследство наследует наследника, а вовсе не наоборот. Это со всей отчетливостью показал Пьер Бурдье в статье, чье название наследует слова Пруста: «Мертвый хватает живого»10.
Мертвый хватает живого, и держит его все той же мертвой хваткой, подобно бешеному псу, вцепившемуся в горло. Мертвый связывает живого собственным наследием, от которого невозможно отказаться. Наследие обязывает и значительно больше, чем мы можем себе представить. Оно, буквально, хватает тебя за руку, призывая к ответу, а, значит, и ответственности. Так что должно вести речь не столько о праве наследования, сколько его обязанности. Оставив наследство, не оставляют в покое; скорее, напротив – остаются с тобой, остаются подле тебя, подчас – внутри, вместе с жестом и взглядом, тембром голоса, движением руки: «оставить своим наследникам – это не значит оставить их, оставить их существовать или жить… наследства бывают только отравленные»11. Наследование – это не столько вопрос крови, сколько – письма, от (п) равленного почтой, а значит и заверенного датой; это вопрос датировки, возвращения к дате, точнее – руке, что продолжает дату надписывать. Мертвый хватает живого и продолжает писать: еще одно письмо, еще одна дата.
Любое письмо, взимая себя у даты, вбирает время и, иногда, большее, чем может удержать память – силишься вспомнить лицо, узнать его в имени на углу конверта, увидеть сквозь подчерк знакомое движение руки и прерывистые лини ладони. Письмо всегда приходит из прошлого, подчас погребенного не только памятью, но и изрядной толщей гумусу, если отправителя уже нет в живых. Это верно и в нашем случае, так что письма Декарта всего менее шелестят бумагой, поглощенные глухим слоем влажной земли. Но странное дело: отправитель мертв, а вместе с тем мы продолжаем ему отвечать, и делаем это на чуждом ему языке. Видимо, это, с легкой издевкой, и называют верностью слову, то есть лишь частным случаем экономии наследования.
Совершенно точно, – «пространные письма повсюду проклятие…, включая загробную жизнь»12. У нас нет особых иллюзий на этот счет: расширяя, слово за словом, пространство письма (все же более склонного к метафоре, чем к метафизике), мы лишь множим это проклятие. Мертвых ли, или живых – разницы нет. Почтовые отделения уже давно проникли в подземный мир, так что смерть сейчас не лучшее убежище от корреспонденции. Впрочем, вероятней всего, наше письмо обречено затеряться в череде отправлений с пометкой «Des Cartes», растворится в плотном потоке философской графомании.Кроме того, у мертвых есть преимущество: они могут не отвечать, или же сделать вид, что их нет, а следом и вовсе бросить читать на любом месте, как только язык письма потянет ко сну. Можем предположить, – это уже произошло, несмотря на ранний час текста. И все же, мы продолжаем писать, покоряясь не столько желанию, сколько логике почтовой открытки.
Итак, живой обращается к мертвому, – если эта сцена стала началом поэтики, почему бы ей также не стать началом письма. Впрочем, расставаясь с иллюзиями, все отчетливее понимаешь, что в аспекте cogito, слово «мертвец» скорее относится к нам. Так что, скорее уж мертвый обращается к живому. Мертвые, живые – Декарт, как мы постараемся показать, общался и с теми и с другими, отнюдь не сразу научившись их различать, сверяя жизнь и смерть, буквально, по часам: «Будем рассуждать так: тело живого человека так же отличается от тела мертвого, как отличаются часы или иной автомат (т. е. машина, которая движется сама собой), когда они собраны и когда в них есть материальное условие тех движений, для которых они предназначены, со всем необходимым для их действия, от тех же часов или той же машины, когда они сломаны и когда условие их движения отсутствует»13. Итак, тело живого человека отлично от тела мертвого точно так же, как часы с исправным ходом отличаются от сломанных часов, лишенных хода вовсе. Об этом, почти постыдном, пристрастии Декарта к часам говорит, в частности, Жак Лакан на одном из своих семинаров: «Я очень советую почитать книжку Декарта, которая называется „О человеке“. Вы купите ее дешево, это не самая известная из его работ, и она обойдется вам дешевле столь любезного зубным врачам „Рассуждения о методе“. Полистайте ее и убедитесь сами: то, что ищет в человеке Декарт, – это часы»14. Едва ли можно считать эти слова простой шуткой, одной из многих, которые позволял себе Лакан. Действительно, «то, что ищет в человеке Декарт, – это часы», но самое главное, – ему удаётся их найти. Декарт вообще очень часто испытывает самые разные технические протезы, буквально встраивая их в модель нашего тела. Пока отметим это лишь вскользь, едва обратив внимание, оставив на полях страницы, словно почти стертую отметину карандашом.
В любой почтовой открытке, даже самой стыдливой, есть что-то непристойное. Ее может прочесть любой, просто случайно оборонив взгляд, пробежать глазами, выхватив несколько слов, а вслед за ними – подпись. Одновременно частная и публичная, обращенная лицом, но в любой момент готовая повернуться задом, лишенная нутра, покрова складок и склеек, возможности спрятать себя в конверте, открытка доступна всякому взгляду и приветствует тепло любой ладони, откровенно выставляя себя напоказ, отдается всем без разбора. Вот почему все открытки, наделенные грифом «открытости», рискуют остаться в жанре почтового промискуитета.
Это не правда, что почтовые открытки появились лишь в девятнадцатом веке вместе с фотографией и разрисованным куском планшета. На самом деле, они возникли вместе с Декартом, о чем говорит уже его имя. Огромная пачка открытых писем, отправленных «до востребования». Des Cartes postales… Почтовые карточки – в множественном числе, с количеством ощутимо превышающем прочие тексты и всегда разными адресами, словно бы Декарт заметал следы или размыкал пространство карты: Франция, Нидерланды, Германия, Австрия, Богемия, Венгрия, Италия, Швейцария, Швеция. Он постоянно путешествовал, причем, насколько мы можем судить, не столько ради географии Европы, сколько ее сценографии: «Целых девять лет я ничем иным не занимался, как скитался по свету, стараясь быть более зрителем, чем действующим лицом, во всех разыгрывавшихся передо мною комедиях»15. Видимо, с позиции жанра Декарт здесь все же лукавит, и видеть ему доводилось отнюдь не только комедии. Однако это мало что меняет в вопросах географии, точно также как едва ли находит отражение в работе почтовой службы: письма продолжают идти друг за другом, подчас догоняя адресат уже на новом месте. Впрочем, и это бывает сделать не просто, поскольку Декарт предпочитает скрываться, словно вор или беглый каторжник, сообщая лишь избранным корреспондентам о маршруте своего пути. «Надоедливым любопытным не следует знать, где он живет. Он скрывает свое местопребывание даже фальшивыми датами, часто меняет его и предпочитает захолустья: пригороды, деревни, отдаленные загородные виллы… Он живет в своем уединении кочевником, «как иудеи в Аравийской пустыне». В течение двадцати лет, проведенных в Голландии (1629 – 1649), он переменил двадцать четыре раза свое местожительство и жил в тридцати различных местах…»16. Для своей корреспонденции в различных городах и странах Декарт имел своего рода «агентов в лице друзей, пересылавших адресованные ему письма»: Бекман в Дордрехте, Рейниер в Амстердаме, Гоогланд в Лейдене и проч. Он создаёт развернутую, прекрасно работающую и отлаженную с математической точностью почтовую сеть, которой позавидовал бы любой преступный синдикат. Но конечно главную роль, помимо самого Декарта, в этом почтовом сговоре играет Марен Мерсенн, через руки которого направляются все письма, которые Декарт пишет во Францию, либо получает оттуда. Декарт познакомился с Мерсенном ещё в школе La Flche, когда восемью годами старший Мерсенн уже заканчивал её, а Декарт, напротив, только туда поступил. И всё же, бесспорно, что именно с Мерсенном Декарта связывали наиболее прочные дружественные и почтовые отношения. В одном из писем, адресованных Мерсенну, датированным 15 апреля 1630 года, Декарт обращается к нему с просьбой: «Я и впредь не премину ставить Вас в известность о своем местопребывании, прошу лишь позаботиться, чтобы об этом никто решительно не знал»17. Декарт отправил это письмо из Амстердама, где он, кажется, ощущал себя лучше всего. Этот город позволял ему раствориться в себе, оставаться неузнанным среди шумной толпы народа18, словно иностранец, – а таковым он и был, – который не знает здесь никого, и не имеет желания заводить знакомства. Своего рода человек-невидимка, с той лишь оговоркой, что видят его как раз все, но при этом никто не замечает. Совершенно неслучайно, что в одном из писем Мерсенну, отправленных из Амстердама несколько лет спустя (10 января 1634 года), Декарт признается, что еще в начале жизни принял девиз – «bene vixit, bene qui latuit»19. Это зеркально перевернутые слова Овидия из «Скорбных элегий», повторяющие в свой черед завет Эпикура «Проживи незаметно». На русский язык эту строку Овидия чаще переводят, как «хорошо прожил тот, кто прожил незаметно». Но латинское «lateo» – это не только быть незаметным или неизвестным, но и скрываться, быть скрытым, прятаться. Так что верно также: «хорошо прожил тот, кто хорошо спрятался», кто скрылся из виду, кому удалось замести следы своей жизни, своего пребывания в месте, каждый раз ином, каждый раз новом.
В этом же письме Декарт, ссылаясь на недавнее отлучение Галилея от церкви, объясняет Мерсенну, почему он не может выслать ему уже законченный текст трактата «Мир» («Le Monde»). Мы ещё вернемся к этому весьма примечательному эпизоду, но сейчас нас интересует другое: в одном из позднейших писем Мерсенн, настойчиво пытавшийся на протяжении нескольких лет всё же «выманить» у Декарта это сочинение, в шутку говорит о том, Декарту угрожает опасность и он излишне опрометчиво рискует собственной жизнью, противясь показать свой «Мир». Его могут просто на просто убить лишь для того, чтобы познакомиться с неопубликованными сочинениями. На что Декарт в ответном письме летом 1637 года пишет: «Я смеялся, когда читал это место. Мои сочинения так хорошо скрыты, что убийцы напрасно искали бы их. Мир увидит мое сочинение не ранее, чем через сто лет после моей смерти»20. Поэтому вовсе не случайн, что Мамардашвили называет Декарта «самым таинственным философом Нового времени или даже вообще всей истории философии. Он – тайна при полном свете»21.
Подчас Декарт бывает резок и груб. Он может позволить себе сказать: «Мне безразлично, как это определяют другие»22, обвинить своего собеседника в «страшной глупости» или даже «великой тупости», тем самым пустив насмарку все прежние конструкции своих разъяснений, выстроенные с таким терпением и тщанием. Скажем более, он делает это довольно часто и с нескрываемым раздражением. Вообще, Декарт отнюдь не всегда соблюдает негласные правила научной дискуссии, срывается на грубость и проклятия. С ним не так-то и просто вести беседу, а если уж делать это, то лучше на расстоянии, используя почту в виде щита. К этому средству, отсрочке во времени и пространстве, обращались многие и, в первую очередь, сам Декарт. Des Cartes postales, как способ уловки. Впрочем, мы уже знаем, – это игра с открытыми картами.
Грамматика картезианства
Письма Декарта, также как, впрочем, и иные его тексты, буквально испещрены барочными метафорами, но, что интересно, опутывая текст стилистически, они сохраняют колоссальную степень открытости, некую предельную степень ясности. Эта ясность сродни открытой ладони, живому касанию, то есть чистая физика слова, кожная поверхность языка. Физичность картезианских метафор превращает процесс чтения в череду тактильных ощущений, словно скольжение пальцами по шрифту Брайля, когда каждый образ получает сборку на коже, оставляя там едва различимый рельеф. Это совершенно осязательные ощущения и поэтому для нас столь важно обнаружить в картезианских текстах, перформативных по своей сути, некоторую внутреннюю логику, или, скорее даже, прагматику, питающую их изнутри, выстраивая последовательность букв в образах света разума или безумия ночи.
Безусловно, тексты Декарта обладают некоторой предельной строгостью конструирования, но при этом столь же очевидна определенная поэтичность его письма. Например, «Рассуждение о методе» написан в жанре исповеди, о чем Декарт предупреждает в самом начале: «Мне очень хотелось бы показать в этом рассуждении, какими путями я следовал, и изобразить свою жизнь, как на картине, чтобы каждый мог составить свое суждение… Таким образом, мое намерение состоит не в том, чтобы научить здесь методу, которому каждый должен следовать, чтобы верно направлять свой разум, а только в том, чтобы показать, каким образом старался я направить свой собственный разум». Более того, далее Декарт предлагает «рассматривать настоящее сочинение только как рассказ или, если угодно, как вымысел»23. Поэтому, мы должны обратить самое пристальное внимание на «восхитительный» стиль письма Декарта24, а также те риторические и метафорические фигуры, которое его непосредственным образом собирают. Мы должны совершенно новым образом проговорить саму структуру этой сборки, разобрать ее на мельчайшие составляющие, не упуская при этом из вида некоторые неочевидные конструкты – сцепки, крепежи картезианского текста, и, одновременно, погружая их в навязчивость ряда образов, буквально преследовавших Декарта. По-всей видимости, совершенно не случайно, что Декарт, прорисовывая, – а это именно прорисовывание, причем водной легкостью акварели, размывающей границы слова, – узловые концепты собственных размышлений, раз за разом обращается к метафорам. Деррида даже говорит о возможности построения «диаграммы метафорики Декарта», которая позволила бы воссоздать их внутреннюю структуру и грамматику: «Если бы мы, например, попытались составить диаграмму собственной (или предположительно собственной) метафорики Декарта,… следовало бы, несомненно, выявить под слоем казалось бы чисто диалектических метафор (которые были представлены в анализе Споерри – плющ и дерево, путь, дом, город, машина, основание или цепочка) другую стратификацию, менее очевидную, но в не меньшей мере систематически организованную, причем она не лежит просто под первым слоем, а тесно сплетается с ним. В ней мы встретили бы воск и перо, одежду и наготу, корабль, башенные часы, семя и поклонника, книгу, палку и т. д. Воссоздать грамматику этих метафор значило бы сочленить их логику с дискурсом, который не представляет себя в качестве метафорического, т. е. с тем, что называют философской системой, смыслом понятий и порядков умозаключений, но также со схемами непрерывности и постоянства, с системами наиболее длинных цепочек, поскольку „одна и та же“ метафора может по-разному функционировать в разных случаях»25.
Георгий Гачев, обратившийся к Декарту в общем контексте гуманитарной культуры Франции (или, быть может, к гуманитарной культуре Франции в общем контексте Декарта), также пишет о своем «филологическом, а не философском» интересе к Декарту. Основной задачей такого подхода он называет «выискивание образов у Декарта», и среди «главных образов-моделей» называет «Вихрь, Губку, Муравья, Улитку»26. Разумеется, это лишь неполный перечень, требующий своей сцепки, связки, стягивания (и вновь навязчивые или, точнее, навязшие на плотной ткани текста образы Декарта) с перечнем Споерри или/и Деррида, впрочем, и после этого не потеряющий своей открытости. Это особенность метафор и образов, само их существо: они остаются открытыми, взламывая текст изнутри, а значит всегда внеположны любому списку или перечню. Кроме этого, метафоры, как известно, способны смещать значение. Скажем метафоры света, огня, к которым нам еще лишь предстоит обратиться. Или метафора пути: «…я решил, что с моей стороны будет большой заслугой, если я покажу, каким образом следует отличать свойства, или качества, ума от качеств тела. И хотя многие писали и раньше, что для постижения метафизических предметов следует абстрагировать мысль от чувств, все же никто до сих пор, насколько мне известно, не показал, каким образом этого можно добиться. Истинный же путь к этому – и, на мой взгляд, единственный – изложен в моем „Втором размышлении“, однако он таков, что недостаточно пройтись по нему однажды: долго надо его протаптывать и вновь возвращаться к началу, дабы привычка всей нашей жизни – смешивать умопостигаемые объекты с телесными – была вытеснена приобретенной в течение нескольких дней противоположной привычкой, а именно привычкой их различать»27.
Итак, необходимо проложить «истинный путь» различения двух субстанций: различие против смешения28. Впрочем, и этого еще недостаточно: требуется «протаптывать» этот путь, возвращаясь к началу, проделывать это вновь и вновь, с настойчивостью и решительностью, наступая себе на пятки. Необходимо пройти путь от смутной радости узнавания на плоскости формы своей ступни до обретения плоскости в форме этой самой ступни, когда след начинает кроить дорогу по лекалам своих очертаний. Не ощущая «естественного света разума», или вовсе его чураясь, множество «ученых мужей» вынуждены подолгу блуждать по «окольным» и «трудным» путям мысли; скитаться, словно во тьме, и скорее на ощупь, вдоль непрочной кладки изъеденных временем стен, рискуя в любой момент лишиться единственной точки опоры. Они подобны слепым кротам, беспорядочно роющим почву и ведущим жизнь в подземелье, не поднимаясь на поверхность из боязни ослепнуть: «у всех тех, кто привык таким образом бродить во мраке, настолько ослабляется острота зрения, что впоследствии они не могут переносить яркого света»29