Казанова Бюизин Ален
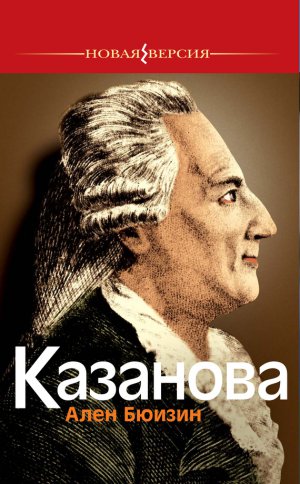
В поисках утраченных удовольствий
Такое название, несколько перефразируя Пруста, можно было бы еще дать мемуарам Казановы, озаглавленным им самим «Историей моей жизни». Герой этих мемуаров прожил, как известно, интересную, до краев наполненную приключениями и плотскими утехами жизнь, а затем, нимало не стесняясь, рассказал о них, из-за чего его имя стало нарицательным, стало символом гедонизма и сексуальных наслаждений. Однако пристальное изучение творчества великого итальянского авантюриста, сделавшегося на склоне лет французским писателем, показало, что главная заслуга Казановы находится совсем в иных сферах, что его истинное место – среди самых престижных авторов мемуаров, таких, как кардинал Рец, герцог Сен-Симон или Шатобриан. Оказалось, что «История моей жизни», этот своеобразный отчет Казановы о его странствиях по странам и весям, является не только великой европейской Одиссеей, но еще и одним из великих памятников мировой литературы. В нем Казанова проявил себя как оригинальный писатель, создавший такую богатую и такую разнообразную галерею характеров, какую не встретишь, пожалуй, ни в одном романе XVIII века.
Жизнь реального Джакомо Джованни Казановы (1725–1798) не исчерпывается любовными приключениями. Появившийся на свет в семье артистов, получивший неплохое по тем временам образование, наделенный от природы разнообразными талантами, он, как губка, впитывал все: какие-то знания он приобрел в семинарии, выучив, например, латынь и овладев основами теологии, затем приобщился к юриспруденции и даже получил степень доктора права, потом проявлял интерес к медицине, математике, астрономии, экономике, языкознанию и многим пригодившимся ему в жизни вещам. Незаурядный любовник и ловкий соблазнитель, Казанова, естественно, больше всего на свете любил женщин. Это общеизвестно и давно стало притчей во языцех. А вот о еще одной, почти столь же сильной его любви к книгам и к библиотекам мало кто знает. Между тем в каком бы городе наш знаменитый искатель приключений ни появлялся, он первым делом шел в библиотеку. При том, возводя обе отличавшие его страсти к любознательности, он для оправдания своего любовного гурманства или, точнее, своей амурной всеядности прибегал к сугубо библиофильским сравнениям и метафорам. «Женщина – точно книга: дурна ли она иль хороша, она должна начинать нравиться с титульного листа; если он неинтересен, то не вызывает желания читать саму книгу, желание же это равно по силе вызванному им интересу. Титульный лист женщины так же строится сверху вниз, как у книги, и интерес к ее ногам, который проявляют столько мужчин, созданных наподобие меня, сродни интересу образованного человека к сведениям о месте издания книги. Большинство мужчин не обращают внимания на красивые ножки женщины, а большинству читателей нет дела до издательства. Следовательно, женщины правы, столь заботясь о своем лице и об одежде, ибо именно так они могут вызвать любопытство их прочитать у тех, кого природа при появлении на свет не провозгласила достойными родиться слепыми. И так же, как те, кто прочел много книг, горят любопытством прочесть новые, пусть даже дурные, бывает, что мужчина, любивший много красивейших женщин, проявляет наконец любопытство к дурнушкам, когда они становятся ему внове. Он видит накрашенную женщину. Краска бросается в глаза; но это его не отталкивает. Его страсть, обратившаяся в порок, подсказывает ему аргумент в пользу ложного титульного листа. Возможно, говорит он себе, что эта книга не так уж плоха…» Так что, наверное, судьба не случайно устроила все так, чтобы на склоне лет он получил место при библиотеке. В его ведении находилось книжное собрание в количестве около 40 тысяч томов, принадлежавшее графу Вальдштейну, замок которого находился на территории современной Чехии. Однако работа оказалась необременительной, досуга было много, и, чтобы заполнить его, а также чтобы вновь хотя бы мысленно пережить приятные мгновения оставшейся в прошлом бурной жизни, Казанова принялся за написание мемуаров.
Когда мемуары знаменитого венецианца были изданы, в 20-е годы XIX века, сначала на немецком, затем на французском языках, они сразу привлекли к себе внимание любознательной публики. Ими зачитывались во всей Европе, в том числе и в России, как нынче зачитываются детективами. У нас их читали тоже на французском и немецком языках. Лишь во второй половине XIX века стали появляться переводы некоторых фрагментов «Истории моей жизни» на русский язык. В 1861 году Ф. М. Достоевский опубликовал в своем журнале «Время» довольно большой отрывок книги «Заключение и чудесное бегство Жака Казановы из венецианских тюрем». Публикации было предпослано редакционное вступление, где Казанову называли одной из самых значительных личностей своего века. А в 1887 году в продаже появился однотомник, сокращенный перевод мемуаров Казановы, подготовленный В. В. Чуйко.
Первое академическое издание сочинений Джакомо Казановы в переводе на русский язык было предпринято только в конце 20-х годов ХХ века. Перевод с французского был тогда осуществлен замечательными переводчиками и литературоведами М. А. Петровским, С. В. Шервинским, Б. И. Ярхо и Г. И. Ярхо. Эта работа, к сожалению, так и не была завершена: после выхода в 1927 году первого тома из планировавшихся десяти публикация была запрещена цензурой. В библиотеках Советского Союза эта книга сразу же была отправлена в так называемый спецхран. Недавно, в 1993 году, эти «Мемуары Казановы, венецианца» возродило к жизни издательство «Книга». Несмотря на то обстоятельство, что перевод тогда осуществлялся по теперь уже давно устаревшему изданию XIX века мемуаров в обработке Жана Лафорга, несмотря на те довольно тяжелые условия, в которых находились переводчики, в частности, из-за необходимости делать существенные сокращения текста, эта работа не утратила своей научной ценности и по сей день. Хочется в этой связи процитировать здесь заключительный фрагмент предисловия, в котором Г. И. Ярхо высказывает свои соображения о том, чем особенно должен заинтересовать Казанова современного читателя: «Старый режим, “ancien rgime”, некогда вознесший Францию до положения культурной руководительницы мира, во времена Казановы уже перешел зенит и близился к закату. И уже внутри самого режима в тех кругах, которые были всем обязаны французской культуре, начали развиваться микробы, расползавшиеся по всей Европе и разъедавшие самые корни абсолютизма. Опаснейшим видом этой бациллы была та армия авантюристов, философов, литераторов, прожектеров, та пестрая кочующая толпа людей всех профессий, от шулеров до наемных министров, объединенных между собой только одним общим умонастроением – неисправимым скептицизмом по отношению ко всем социальным и моральным основам старого общества. Весь этот мир неблагодарных последышей некогда великой эпохи изображен в “Мемуарах” ярче, чем в любом историческом исследовании, именно потому, что изображал его вряд ли не самый яркий из его представителей. И в наши дни, когда во всем мире чувство исторической перспективы под влиянием демократизации и американизма угасает с изумительной быстротой, полезно иногда взглянуть на прошлое не с высоты (или из глубины?) нашей эпохи, а глазами современника и очевидца». Не правда ли, звучит достаточно актуально?
Одновременно с этим изданием в начале 90-х годов, словно по мановению волшебной палочки, появилось много новых переводов а русский язык мемуаров Казановы – в издательствах Москвы и Петербурга, Саратова и Кишинева. Среди них следует выделить перевод, выполненный А. Ф. Строевым и И. К. Стафф и опубликованный издательством «Московский рабочий». Во-первых, он сделан по подлинному французскому тексту «Истории моей жизни», который впервые увидел свет лишь в 1960–1962 годах. Во-вторых, на сегодняшний день это наиболее полный перевод на русский язык мемуаров Казановы.
Что же касается работ, посвященных Казанове, то здесь в первую очередь следует назвать неоднократно переиздававшееся у нас эссе Стефана Цвейга, короткое, но незабываемо яркое и очень глубокое. А вот биографии Казановы, которых во Франции, Италии и других странах написано уже не меньше трех есятков, как правило, сводятся к более или менее талантливому пересказу все той же «Истории моей жизни». Выгодно отличается от большинства из них предлагаемая здесь книга французского писателя и ученого Алена Бюизина, называющаяся в оригинале «Казанова, европеец». Отличительными чертами ее является источниковедческая основательность, культурологическая широта охвата материала. Бесспорно, сильной стороной книги Бюизина о Казанове является тот исторический контекст, в который он помещает своего героя. Ален Бюизин прекрасно знает Венецию XVIII столетия, он является знатоком и тонким ценителем изобразительного искусства Италии того времени. В частности, им были опубликованы монографии о выдающихся представителях венецианской школы живописи, современниках Казановы, Тьеполо и Каналетто. Кроме того, его перу принадлежат книги о творчестве крупных французских писателей конца XIX – середины ХХ веков – Верлене, Прусте, Лоти, Сартре, опубликованные в различных французских издательствах в 80—90-е годы. Пожалуй, можно сказать, что он был как никто другой подготовлен к тому, чтобы дать исчерпывающую оценку художественного наследия Казановы, когда появился, как о том мечтал Стефан Цвейг, «надлежащий фундамент», то есть оригинальный текст его мемуаров. Хочется надеяться, что выбор монографии Алена Бюизина оправдает надежды самого взыскательного читателя. В определенной степени можно сказать, что данная книга является подведением итогов исследования жизни и творчества Казановы в западноевропейской литературе.
Следует сказать несколько слов о сносках. Поскольку настоящий перевод рассчитан на широкого читателя, мы постарались сократить до минимума ссылки автора на специальную литературу. Однако ссылки на саму «Историю моей жизни» все же решено было оставить. Ален Бюизин категорически заявляет, что, по его мнению, существует всего лишь два достойных доверия издания «Истории моей жизни». Первое – это издание 1960–1962 годов, которое уже было упомянуто выше, а второе – издание, выпущенное в 1993 году в Париже издательством «Робер Лаффон» в трех томах в знаменитой серии «Букен». Оно было опубликовано вскоре после выхода в свет перевода мемуаров Казановы на русский язык, выполненного А. Ф. Строевым и И. К. Стафф. Поэтому ссылки на текст мемуаров в публикуемой книге даются по последнему парижскому изданию, как и у самого Алена Бюизина. Ведь в отечественной науке пока еще не существует того, что можно было бы условно назвать каноническим текстом перевода «Истории моей жизни». Мы сочли возможным дать единообразный сплошной перевод с французского, включая цитаты из сочинений Казановы, сохранив, тем не менее, в круглых скобках авторские ссылки на мемуары Казановы по парижскому изданию 1993 года, где первая, римская, цифра обозначает том, а вторая, арабская, – страницу.
Т. Д. Сергеева,
заслуженный работник культуры Российской Федерации, профессор Российской Академии театрального искусства
Казанова
Одной венецианке, которую я так и не позабыл.
Попытаемся сравнить его биографию в том, что касается пережитого (а не духовной сущности или глубины познаний), например, с биографиями Гёте, Жан-Жака Руссо и других его современников. Какими узконаправленными, бедными событиями, тесными в пространстве, провинциальными в социальном плане кажутся нам жизни последних, сплошь обращенные к одной цели и повинующиеся воле к творчеству, рядом с карьерой этого авантюриста, бьющей ключом, словно река, и столь же стихийной: он меняет как перчатки страны, города, условия, профессии, миры, женщин и повсюду тотчас осваивается, сталкиваясь с вечно новыми неожиданностями! Это всего лишь дилетанты в наслаждении жизнью, как он – дилетант в литературе. В самом деле, в этом и заключается извечная трагедия интеллигента: в то время как он создан для того, чтобы познать всю широту и сладострастие бытия и горит желанием это сделать, он, несмотря ни на что, остается связан со своей задачей, рабом своего труда, в подчинении у обязанностей, которые сам себе навязал, пленник порядка и земли.
Стефан Цвейг
I. Жизнь в движении
Чтобы путешествовать с приятностью, приходится идти на большие расходы: это единственный способ пользоваться всеобщим уважением, быть повсюду вхожим и извлечь пользу из путешествия[1].
Начало ноября 1998 года. Прогуливаюсь по выставке, устроенной в Ка-Реццонико, великолепном венецианском музее XVIII века на берегах Большого Канала, по случаю двухсотлетия смерти Казановы – «Мир Джакомо Казановы. Венецианец в Европе, 1725–1798». Мне не терпелось ее увидеть, я заранее предвкушал удовольствие от этой выставки, и вот я разочарован, даже удручен. Ценность выставленных предметов неоспорима. Картины великих художников XVIII века Антонио Каналетто, Франческо Гуарди, Бернардо Белотто и Микеле Мариески с изображением пейзажей – панорам Венеции, так называемые ведуты, замечательны, это бесспорно. Жанровые сценки Пьетро Лонги не утратили своей живописности и притягательности. Обнаженные модели Ван Лоо, Буше, Фрагонара все так же возбуждают, а крутобедрая «Одалиска» Буше, изогнувшаяся перед восхищенным зрителем, все так же завлекательна. Предметы, выбранные, чтобы отразить невероятную роскошь той эпохи, зачастую очень красивы. Великолепное серебро, драгоценная фарфоровая посуда, расписанная чрезвычайно изящно, чудесные хрустальные кубки с Мурано, изумительный кувшин для шоколада с батальной сценой, написанной пурпурином, и кофейный сервиз с прелестными галантными сценками, часы с восхитительной резьбой, предметы туалета и несравненно элегантный набор для шитья, искусно изукрашенные табакерки. Костюмы, даже слегка полинявшие, сохраняют все свое очарование.
И все же… Джакомо Казановы, авантюриста, постоянно находящегося в движении, на этой выставке нет, нигде и ни в чем. Здесь все какое-то инертное, застывшее, парализованное. Это симптоматично: если и есть слово во французском языке, которое Джакомо Казанова ненавидит пуще всех других чудовищных словесных порождений революционеров, падких на неологизмы, это именно глагол «парализовать», который он даже называет «патологическим»:
«ПАРАЛИЗОВАТЬ. Это единственное слово, имевшее успех, даже за пределами Франции, по причине того, что оно неплохо звучит и имеет греческое происхождение. Большое число честных писателей пользуются им с искреннейшим прямодушием, и я всегда оказываюсь одинок в своем мнении, когда об этом заходит речь, ибо я не принимаю его, поскольку не могу его терпеть, но я не отступаюсь и никогда не отступлюсь. Если уже существовало слово “расслабить”, какая нужда в глаголе “парализовать”? Если это одно и то же, он бесполезен, если же он говорит о большем, то вводит в заблуждение, когда говорящий хочет сказать о меньшем. Доктора уже давно используют это слово как научный термин в отношении паралича: это единственная область его применения, ибо, происходя от глагола “решить”, он становится неуместен в любом другом вопросе. Французский язык беден, но все же не нищ: если ему требуется новое слово, его можно почерпнуть в более чистых источниках, сообразных с философией, назначение которой в том, что касается слов, состоит в их разложении на части прежде усвоения.
Если была нужда в новом слове, не являющемся синонимом, созданном, чтобы выразить несколько больше, нежели «расслабить», отчего же было не взять его у нас, по праву справедливого отмщения: поскольку богатый во все времена обкрадывает бедного, мы откровенно признаем, что, касательно языка, обкрадывали французов, как могли.
У нас есть слово “assiderare”, происходящее от латинского “siderari” (вызвать резкий упадок сил, поразить, ошеломить). “Парализовать” же, повторяю, было уместно в устах врачей. Троншен сказал мне сорок лет назад, что глаукома – это болезнь, неизлечимая при парализованной радужной оболочке, равно как парализованные слуховые нервы делают неизлечимой глухоту (…).
В заключение скажу, что слово “парализовать” выражает слишком много. Это слово как будто убивает, тогда как “расслабить” оставляет еще немного жизни. Например, старость расслабила все мои члены, и все мое существо подобно рубашке из наилучшего полотна, все части которой одинаково стареют вместе, пока вся она не обратится в лохмотья, так и старость постепенно доберется до конца. Если бы старость их парализовала, я бы оказался паралитиком, мало чем отличающимся от мертвеца, каковым я не являюсь, хотя в целом ослаб»[2].
Этот тщательный анализ следовало бы привести целиком, настолько он симптоматичен! Какое ожесточение, порожденное уже не одним только радением к языку, не одной этимологической и лексикологической точностью! «Парализовать» – слово, которое убивает. Вот так же и здесь, в Ка-Реццонико, все слишком застывшее, отвердевшее, в общем – омертвелое. Не хватает бесчисленных маррутов, скорости передвижения, свойственной Казанове. Всю свою жизнь он разъезжал из страны в страну и из города в город: Венеция, Падуя, Корфу, Константинополь, Венеция, Анкона, Рим, Неаполь, Марторано, Дрезден, Прага, Вена, Лион, Париж; через всю Италию – Милан, Мантуя, Чезена, Болонья, Парма, Виченца; Женева, Венеция, Париж, Дюнкерк; в Голландию – Амстердам, Гаага; Мюнхен, Кельн, Бонн, Штуттгарт, Страсбург; в Швейцарию – Цюрих, Баден, Солер, Берн, Базель, Лозанна; во Францию – Экс-ле-Бен, Гренобль, Авиньон, Марсель, Лион, Мец, Антиб; снова в Италию – Генуя, Ливорно, Флоренция, Неаполь, Болонья, Парма, Турин; снова в Париж; потом в Лондон. Затем в Россию: Рига, Митава, Санкт-Петербург и Москва; в Пруссию и в германские государства: Берлин, Везель, Дрезден, Лейпциг, Людвигсбург, Кельн, Ахен, Аугсбург; в Испанию: Мадрид, Толедо, Сарагоса, Валенсия, Барселона, проездом через Францию: Париж, Монпелье, Ним, Экс-ан-Прованс, Марсель; снова Прага, потом Спа и Варшава; в очередной раз Италия, Ницца, Турин, Парма, Ливорно, Пиза, Сиена, Рим, Неаполь, Сорренто, Болонья, Триест, Горица, через Лугано. Разумеется, Венеция. Вена, Дукс, Дрезден, Прага, Лейпциг. И снова незаменимая Венеция, остающаяся (по меньшей мере, когда он имеет на это право) отправной точкой всех его перемещений, обязательным местом пересечения его дорог.
Казанова никогда долго не сидит на месте. Не обустраивается. Вечно проездом, никогда нигде не селится окончательно. Он мчится, снует по Европе, колесит по ней вдоль и поперек, «проникая с завидным постоянством в самые просвещенные круги своего времени (…), где французский язык служит практически повсеместно языком общения. Повсюду он устраивается, как у себя дома (…). Свободный как ветер и свободный от всяких патриотических предрассудков, он открыто беседует с турецким эрудитом, кельнским курфюрстом или еврейским судовладельцем из Амстердама»[3]. Нигде он не чужой, повсюду он дома. «Он принадлежит к той обширной стране, не имеющей для него границ, где говорят и думают по-французски; к Европе беседы и галантности»[4]. Но как бы быстро он ни привыкал к любому новому обществу, его нельзя надолго удержать в одном и том же месте. Он собирается в момент, раз – и след простыл, и вот уже он мчится, скачет, пересекает границы одну за другой. В этом смысле знаменитый побег из венецианской тюрьмы Пьомби – больше, чем рядовой факт биографии. Каким бы эффектным он ни был, это очередной пример непреодолимой силы движения, которая руководила Джакомо Казановой, не зная никаких преград. К женщинам он относился так же, как к городам и королевским дворам. «Заподозрив, что одна из них хочет заставить его остановиться, он исчезал. Явления Казановы зрелищны, его отъезды незаметны. Они часто напоминают бегство»[5]. Вот почему более верным способом приблизиться к сущности Казановы и его личному опыту счастья было бы не выставлять самые утонченные порождения эстетики его века, а перечислить названия средств передвижения: дилижанс, дормез, гондола, карета, рыдван, берлина, ландо, коляска… Ибо именно от их элегантности и удобства, от их быстроты зависели для Казановы его искусство отъезда, его шансы удрать. Это настолько верно, что, как только у него появились средства, он, долгое время путешествовавший пешком, купил собственную коляску, чтобы проехать через всю Францию от Лиона до столицы, – легкую, быструю и разборную: «Я купил коляску, которую называют одиночкой, о трех окошках, на двух колесах, с оглоблями, на рессорах, с обивкой из пунцового бархата, почти новую. Она обошлась мне в сорок луидоров. Я отправил в Париж дилижансом два дорожных сундука, при себе же оставил лишь несессер, и собирался отправиться в путь на следующий день в шлафроке и ночном колпаке, намереваясь покинуть коляску, лишь миновав пятьдесят восемь станций по самой хорошей дороге во всей Европе» (III, 97)[6]. В случае необходимости Казанова не колеблясь велит разобрать коляску. Так, ему удалось в разгар зимы перейти Альпы через перевал Сен-Бернар за три дня (настоящий рекорд), с семью мулами, тащившими его сундуки и разобранную на части коляску. Хотя обладание собственным экипажем позволяло ему самому выбирать свой путь, он никогда не обладал преимуществом на почтовых станциях, где меняли кучера или лошадей. Для вечно торопящегося путешественника это создавало невыносимые проволочки, еще усугублявшиеся бесчисленными таможнями и мытными дворами вдоль дорог, не говоря уже о войнах, которые порой заставляли его делать длинный крюк.
Утверждая, что существует лишь четыре категории людей, совершающих длительные путешествия – моряки, купцы, солдаты и миссионеры, Жан-Жак Руссо позабыл о целом братстве путешественников, процветавшем в XVIII веке, – об авантюристах, к которым принадлежал Джакомо. Они «могут поддерживать свою личность лишь ценой беспрестанной смены мест проживания. Обжегшись в одном месте, они стараются оттуда удрать, проводят черту между собой и полицией, появляются в другом месте, блистают там несколько недель, потом, снова разоблаченные, несутся галопом на почтовых в поиске новых простофиль, в погоне за состоянием, которое бесконечно от них ускользает»[7]. Вечные кочевники, они встречаются и пересекаются на всех дорогах и во всех столицах Европы, составляя удивительную галерею персонажей, от самых живописных до самых беспокойных, каких зачастую знавал Казанова. «Если вы захотите узнать что-нибудь подлинное обо всех авантюристах на земле, наших современниках, приходите ко мне, ибо я знал их всех funditus et In cute[8]», – писал Казанова под старость в письме, адресованном из Праги, 28 июля 1787 года графу Максимилиану фон Ламбергу. Эти «рыцари фортуны» звались Джузеппе Бальзамо, он же граф Алессандро Калиостро, граф Сен-Жермен, Анж и Сара Гудар, музыкант Джузеппе Даль’ Ольо, и это лишь некоторые из тех, кого лично знавал Казанова.
Все пользовались свободой передвижения, которая, возможно, и существовала-то в полной мере лишь в XVIII веке. Один из персонажей романа «Очарованье Рима» бельгийского писателя Алексиса Кюрвера еще в 1957 году заметил, что «Европу объединяли на бумаге, тогда как на границах бесконечно увеличивалось число таможенников и жандармов. Эразм, Шекспир, Рубенс, Моцарт, принц де Линь сегодня уже невозможны: им бы отказали в визе, а багаж конфисковали. Им потребовалось бы заполнять бланки, вместо того чтобы создавать свои произведения». И когда рассказчик возражает ему, что никогда столько не путешествовали, как сегодня, тот отвечает: «Отлично. Но путешествуют группами, по приказу, две недели в год, тихо-мирно, показывая, что у тебя в чемодане и в бумажнике. Или же, если вы чиновник, вы сколько угодно разъезжаете за счет фирмы, пересекаете океаны, рассекаете воздух в самолетах, чтобы, не теряя ни минуты, присутствовать при болтовне, на конгрессах, организованных в рамках “культурного сотрудничества” или чего-нибудь вроде этого. В рамках! Наша эпоха живет и путешествует “в рамках”!»
Другим аспектом хронического непостоянствавенецианца была кутерьма с псевдонимами: Джакомо Джироламо Казанова будет еще и шевалье де Сенгалем, графом Фарусси (облагородив фамилию матери), Паралисом по имени своего ангела, Гульнуаром, Эконеоном, Антонио Пратолино и Эмполемо Пантенессой, пастухом в Римском Аркадийском обществе. Кстати, в «Истории моей жизни» упомянут необычный ономастический эпизод. Однажды, будучи в Аугсбурге, Казанова получил приказ явиться к бургомистру, который спросил его, почему он носит ложное имя, заставляя величать себя Сенгалем, тогда как зовется Казановой:
«Я принимаю это имя, вернее, принял его, потому что оно мое. Оно принадлежит мне на столь законных основаниях, что если бы кто-нибудь посмел его носить, я бы отспорил его всеми путями и всеми способами.
– Каким же образом это имя принадлежит вам?
– Я его создал; но это не помеха тому, что я также и Казанова» (II, 728).
Бургомистра это не убедило. Он полагал, что носить одновременно два имени невозможно и, разумеется, запрещено. Он не понимал, как это можно самому создать свое имя:
«Это проще простого (…). Алфавит принадлежит всем; сие неоспоримо. Я взял семь букв, соединил их таким образом, что получилось слово “Сенгаль”. Это слово пришлось мне по душе, и я принял его в качестве своего наименования, будучи твердо убежден, что поскольку никто не носил его прежде меня, никто и не имеет права оспаривать его у меня, а тем более носить без моего согласия».
Когда сбитый с толку градоначальник напомнил ему, что фамилией человека может быть только фамилия его отца, Казанова ему заметил, что его собственное имя, которое он носит по праву наследования, не существовало веки вечные. Однажды его пришлось-таки сочинить кому-то из его предков, не унаследовавшему фамилии от отца, пусть бы тот звался хоть Адам!
Если Казанова так настаивает на относительности фамилий, в которых нет ничего вечного и неизменного, то лишь потому, что расширяет поле своей суверенной свободы, присваивая право быть творцом собственного имени, а еще потому, что теперь становится совершенно невозможно с уверенностью определить, кто он и где он. Вам кажется, что вы настигли и назвали его по имени в том или ином месте, а он уже уехал под другой фамилией. Книга, претендующая на рассказ о Казанове, должна увлечь читателя в головокружительный вихрь географических названий и имен.
Кроме того, прежде чем приняться за подобный труд, необходимо ответить на важный вопрос, от которого нельзя отмахнуться. Зачем нужна биография Казановы, раз его автобиография уже представляет собой рассказ о его жизни? «Достойная или недостойная, моя жизнь – моя материя, моя материя – моя жизнь. Я прожил ее, не думая, что когда-нибудь мне придет охота писать, и она может показаться интересной, какой, возможно, не была бы, если бы я прожил ее с намерением описать на старости лет и более того – опубликовать» (I, 4). Это нужно понимать буквально. Все работы бесчисленных казановистов-любителей, проводивших частное расследование, окончательно подтвердили: в «Истории моей жизни» все или почти все – правда. Даже если ему случается не раз путаться в датах (весьма вероятно, что без всякого умысла), факты подтверждаются всякий раз, когда их возможно проверить. Нет, в целом он не притворяется, не сочиняет, ему даже нет нужды романизировать, настолько его жизнь похожа на роман, хотя он замечательный рассказчик, умеющий преподнести свои удивительные приключения. Долгое время в Казанове хотели видеть лгуна, сочинителя, выдумщика, вероятно, чтобы оградить себя от него. Ничего подобного. Каждый раз, когда его утверждения возможно сопоставить с документами того времени, приходится признать, что в большинстве случаев он говорит правду. Разумеется, ему случается приукрашивать, прибавлять или, наоборот, кое о чем умалчивать. Как можно хоть на минуту поверить в полную объективность рассказа о себе самом? Тем не менее, с некоторыми поправками, его биография уже написана и со всех точек зрения несравненна и превосходна. Вот почему почти все биографии Казановы похожи на дурные вытяжки, на неловкие и натужные резюме «Истории моей жизни». Даже некоторым из самых свежих эссе, написанных лучшими писателями, не удалось избегнуть опасности парафразы, производя впечатление, что их задача – всего лишь избавить наших современников от необходимости читать сам оригинал, который довольно-таки длинен и порой, надо признать, скучен и не лишен повторений. Теперь понимаешь, почему множество авторов предпочли оттолкнуться от написанного Казановой, чтобы закрутить новые романы: Герман Гессе в «Обращении Казановы», Артур Шницлер в «Возвращении Казановы», Шандор Мараи в «Разговоре в Больцано», Эндрю Миллер во «Влюбленном Казанове» используют «Историю моей жизни» как дрожжи, на которых произрастает новый вымысел. Чтобы не повторять Казанову, остается лишь выдумать для него новые приключения, которым, как ни крути, с большим трудом удается сравниться с «настоящими» перипетиями из его мемуаров.
Таким образом, и речи не может быть о пересказе событий, столь замечательно изложенных самим Джакомо Казановой. Этим объясняется структура моей биографии, в которой, в целом придерживаясь хронологии более чем бурной жизни самого знаменитого венецианца после Марко Поло, будут чередоваться места и поступки, путешествия и положения, перемещения и действия, такие, как: учиться, желать, заражаться, влюбляться, соблазнять, любить, казаться, изменять, играть, беседовать, подкрепляться, шпионить, писать, умирать. «История моей жизни» построена одновременно на развитии и повторе. Приключения, партнеры, ситуации, места действия постоянно меняются, но манера действовать и вести себя остается прежней. На самом деле нет ничего более цикличного, чем «История моей жизни».
II. Венеция в 1725 году
Госпожа де Помпадур (…) спросила меня, действительно ли я из того края.
– Какого?
– Из Венеции.
– Венеция, мадам, не с края, она в центре.
Граф Пьер Дарю в своей монументальной «Истории Венецианской республики» в девяти томах, вышедшей в 1821 году, заканчивает рассказ о борьбе Светлейшей республики[9] с турками (конец которой положил договор, заключенный в Пассаровице 21 июня 1718 года), отмечая: «На этом заканчивается история Венеции», – хотя ему оставалось написать еще три тома. Весь XVIII век для Венеции будет лишь долгой агонией, апатичной и патетичной, и Бонапарту, в общем-то, придется лишь прикончить полумертвого: «Сведенная к пассивному опыту, она больше не поддерживает войн, не заключает перемирий, не выражает своей воли. Наблюдая за событиями со стороны, во избежание того, чтобы принимать в них участие, она делает вид, будто они ее не интересуют. Прочие страны, видя, что она твердо придерживается системы бесстрастия, не удостаивают спросить ее мнения о том, что происходит у ее ворот (…). Одинокая посреди государств, невозмутимая в своем безразличии, слепая в отношении своих интересов, бесчувственная к оскорблениям, она жертвовала всем своему единственному желанию – ничем не досаждать другим государствам и сохранять вечный покой».
Если верить большинству историков и критиков, Венеция XVIII века уже не была Венецией. Она превратилась в тень самой себя, ностальгическое обтрепавшееся воспоминание о былой военной и торговой мощи. Блестящая победа над турками при Лепанто, в 1571 году, уже далеко. Полное вырождение аристократических добродетелей и тенденция ссылаться на мрачную когорту нравоучителей: «Ослабление дисциплины и уравновешенности нравов; отказ от начальствующих и ответственных постов; безразличие и политический скепсис или же преувеличенно непоколебимые консервативные настроения и жадность к привилегиям; продажность и торговля должностями; склонность к мотовству, волокитству, гульбе; нездоровая страсть к безумной пышности и слепящей роскоши; ложная риторика в манерах, церемониале, языке; утомление боевых инстинктов и стремление к миру любой ценой»[10]. И как полагается, за забвением обычаев и упадком политического строя должен был последовать упадок искусства.
На самом деле XVIII век во многих отношениях – настоящий ренессанс, просто благодать после ужасающих несчастий века XVII: крупного экономического кризиса с 1620 года, страшной чумы 1630 года, унесшей за полгода 80 тысяч человек, падения Кандии 5 сентября 1669 года и потери Крита, самого последнего уголка чудесной торговой империи, которую основала Венеция на левантийском побережье Средиземного моря, землетрясения 4 марта 1678 года, нанесшего значительный ущерб. После стольких страданий, проигранных войн, общего обеднения, эпидемий мрачного и зловещего XVII века век XVIII был пережит венецианцами как возрождение. Доказательство: на XVIII век в Светлейшей приходится расцвет архитектуры. Джорджо Массари, построивший также палаццо Грасси, завершил строительство дворца Реццонико, а Антонио Гаспари – палаццо Пезаро, оба начатые в конце XVII века Балдассаре Лонгеной. Со своей стороны, Доменико Росси создал чертежи внушительного дворца Корнер делла Регина, выходящего на Большой канал. После суровых испытаний XVII века нужно наслаждаться жизнью, развлекаться, забавляться, смеяться, «карнавалить». Если венецианцы считают, что имеют право вести веселую и легкую жизнь, то не потому ли, что сознают: их история уже позади? «Расслабленные миром; более не вмешиваясь в интересы и споры вокруг себя; сохраняя перед лицом спорящих или дерущихся держав позицию вооруженного, а больше безоружного мира; проводя внешнюю политику любезности и учтивости; следуя внутренней политике снисходительности и попустительства; беседуя с послами, проживающими в ее дворцах, лишь о вздоре приятного ничегонеделания; и как будто приобретя за весь свой долгий опыт лишь бесконечную недоверчивость и дипломатическую проницательность старика, Республика более не имеет другой истории, кроме истории счастливых народов»[11]. Венецианцы наконец-то свободны от своих вековых и тягостных исторических обязанностей. Какое облегчение! Какое отдохновение! История свершилась, остаются только праздность и наслаждение. «В XVIII веке Венеция – зачарованный остров, аббатство Телема, розовый песок неведомой страны; светлый и безумный город маскарадов, серенад, переодеваний, развлечений, путешествий на остров Киферы в золотой мишуре и с бумажными фонариками; “европейский Сибарис”, по выражению Фосколо; “свободное и блаженное обиталище граций”, как сказал Альгаротти; “самое восхитительное состояние для свободного и праздного человека”, как писала графиня Винн женевцу Губеру»[12]. Не впадая в наивную и идиллическую идеализацию, тем не менее нельзя спорить с тем, что эта Венеция пренебрегла влиянием на обширных просторах Средиземного моря ради передышки и отдыха, твердо решившись как можно приятнее потратить свои сказочные богатства, накопленные за века завоеваний и торговли.
Так пусть же начинается праздник! А в области празднеств венецианцы – непревзойденные специалисты. Любой повод хорош, церковный или мирской. Однажды я отыскал у букиниста необычный путеводитель по Венеции, датированный концом XVIII века, – именно путеводитель, а не путевые заметки. С программой посещений на каждые полдня, списком и подробным описанием памятников, дворцов, церквей и картин. Вот доказательство, если в нем была нужда, что уже в XVIII веке Венеция являлась туристическим центром в современном смысле этого слова, посещаемым всею состоятельной Европой во время больших турне. Хотя главным направлением оставался Рим, Венеция представляла собой обязательное дополнение, глоток вольности после суровых и строгих уроков прошлого. Разумеется, в этом путеводителе очень длинная глава отводится перечислению всех праздников в Светлейшей республике. Только в январе отмечается не менее пяти важных праздников. Первого января – торжественное богослужение в соборе Святого Марка, с трехдневным выставлением святого причастия. Третьего – на площади Святого Марка устраивается большой крестный ход с участием всей венецианской знати. 6-го – специальный праздник, чтобы составить программу празднеств на весь год: дьякон собора Святого Марка оглашает расписание переходящих праздников. 14-го – праздник святого Пьетро Орсеоло, который был дожем. 17-го – вручение премии в два дуката каждому из аристократов, отправляющихся в Совет на выборы. 31-го – праздник в честь переноса тела святого Марка в Венецию, состоявшегося в 828 году. И так из месяца в месяц. Не забывая, естественно, о ежегодном карнавале – великом времени развлечений и наслаждений. Между прочим, этот карнавал очень долгий, поскольку он начинался в первых числах октября с открытия театров, прерывался на период Рождественского поста, возобновлялся 26 декабря на праздник Святого Стефана и продолжался до «жирного вторника», последнего дня перед началом Великого поста, который Сенат сделал праздничным с 1296 года. «Нарушения, беспутство, роскошь и развлечения царили тогда безраздельно… Все пользовались неограниченной свободой, ибо маска, связанная с неповиновением, означала в Венеции равенство между общественными классами. Вне карнавала ее использование не только “допускалось”, но и, при различных обстоятельствах, навязывалось правительством. Таким образом, венецианцы и чужестранцы носили маски в период, составлявший не менее шести месяцев»[13]. Венеция покинула историческую сцену ради театральной. Она больше не вмешивается, не действует, она выставляет себя напоказ, лицедействует. Не случайно, что XVIII век породил великих мастеров городских пейзажей, с безумной скоростью плодивших свои полотна, те самые «ведуты», как для богатых патрициев, так и для иноземных, в основном английских туристов, хотевших сохранить памятку о своей поездке.
Вот какой образ Венеции XVIII века рисует поэт-вольнодумец Алвизе Баффо, который (мы еще к этому вернемся) сыграет основную роль в формировании и посвящении юного Казановы:
«В Венеции царит такая веселость, там ведут столь приятную жизнь, что я думаю, во всем мире нет ничего подобного. / Столько изнеженности в привычках, столько грации в манерах, в городе столько красавиц, что он как будто посвящен Венере. / Здесь уже не встретишь былой суровости; все женщины сегодня принимают вас радушно, куда бы вы ни явились. / Замужние женщины более не живут в удалении от мира, ночью и днем они разъезжают по городу / Наедине с милым другом, и за ними не следует, как прежде, муж-колпак. / Можно свободно нырнуть к ним в постель, и муж ничего не узнает, а если узнает, то не встревожится. / (…) Здесь множество дворян, сплошь одетых по французской моде и проедающих все, что у них есть. / (…) Они проводят целые ночи в пирах, за игрой и пением; и в это время их жены предаются блуду с любовниками. / Игорные дома в моде. Роскошь и наслаждения, которые в них можно найти, привлекают толпы людей, оставляющих там свои цехины. / Деньги текут ручьем; город становится от этого красивее; но порок истощает все кошельки. / Не будь этих пороков, об артистах бы совсем позабыли, и они бы исчезли. / Не будь честолюбия, чревоугодия и любви, огромные сокровища так и были бы схоронены в кубышке. / Жаль, что в городе не осталось шлюх, но замужние женщины взялись их заменить. / Профессиональная шлюха – вещь, которой каждый может располагать, тогда как замужняя женщина отдастся не каждому. /(…) Есть еще толпа виртуозов, певиц и танцовщиц, проказливых кобылок, на которых так приятно ездить верхом.(…) / Танцовщицы и певицы живут на широкую ногу, сегодня они королевы, водящие мужчин за концы. (…) /Да здравствует же этот город, средоточие наслаждений, равно приятный для чужестранцев, как и для местных уроженцев»[14]. Тратить дукаты, чтобы поражать нарочитой роскошью построек, коллекций, пиров и празднеств, спускать безумные деньги на игру, соблазнять и любить женщин всех сословий – вот основные занятия богатых венецианцев в XVIII веке. Джакомо Казанова в этом смысле – «продукт» своего города и своего века, с тем только (весьма значительным) отличием, что он ни благороден по рождению, ни богат. Его жизнь столь исключительна потому, что он играл роль богатого венецианца-космополита, никогда не обладая настоящим личным состоянием.
III. Родиться дважды
Вот так от меня и избавились.
Для автора «Истории моей жизни» все началось по-настоящему в августе 1733 года, когда юному Джакомо было восемь лет и четыре месяца: «Я стоял в углу комнаты, нагнувшись к стене, поддерживая голову руками и не сводя глаз с крови, обильно струившейся на землю из моего носа» (I, 17). Очередное кровотечение: бедный Джакомо постоянно теряет кровь. Ту долго не удается унять, так что в общем представлении он – не жилец. На земле долго не задержится, считают близкие, уже свыкшиеся с мыслью о его скорой смерти. По счастью, добрая и чуткая бабушка с материнской стороны, Марция Фарусси, начеку: она отвезла внука в гондоле к одной колдунье с Мурано, которая, получив дукат серебром, устроила целый магический обряд, способный впечатлить ребенка, уже и так напуганного постоянной кровопотерей. Заперла его в ящик, откуда он слышал весь поднятый вокруг шум – смех, плач, крики, пение и удары по ящику. Затем его выпустили, обласкали, раздели, положили в кровать и завернули в простыню, пропитанную дымом снадобий, которые сожгла колдунья. На следующую ночь, как и предупреждала колдунья, приказавшая никому ничего не рассказывать, «я проснулся и увидел, или подумал, что увидел, что из камина вышла ослепительная женщина в большом кринолине, в платье з роскошной ткани, а на голове ее была корона, усыпанная драгоценными камнями, которые, как мне показалось, горели огнем. Она медленными шагами, величественно и спокойно подошла и присела на мою постель. Достала из кармана коробочки и высыпала их содержимое мне на голову, что-то бормоча. После долгой речи, обращенной ко мне, из которой я ничего не понял, она поцеловала меня и ушла так же, как появилась; я же снова заснул» (I, 17–18). Какое прекрасное начало для неисправимого обольстителя – вот так вступить в жизнь и обрести здоровье благодаря ночному посещению прекрасной дамы, которое он должен хранить в тайне, если не хочет лишить себя счастья в будущем!
Это возрождение (поскольку кровотечения отныне станут все реже и слабее и надежда вернется) – его настоящее рождение. До шума и жестикуляции колдуньи, до этого фееричного явления женщины не было ничего, абсолютно ничего. Ни малейшего детского воспоминания, о каком можно было бы рассказать. Угрюмый, слабенький, лишенный аппетита, не способный ни к чему приложить старание, с глуповатым видом, с вечно раскрытым ртом, как у дурачка с рождения, маленький Джакомо не жил, а прозябал: «густота моей крови была причиной моей глупости, которая читалась на моей физиономии» (I, 20). Почти идиот, в общем, умственно отсталый. И вдруг – чудо! Начало исцеления, которое нужно закрепить и довести до конца, сменив обстановку. Он отправится в пансион в Падую, к некой госпоже Мида, жене полковника ополчения Венецианской республики. На самом деле, условия там были очень суровыми. В доме грязно, постель отвратительная, пища плохая. Неважно. Джакомо старается и учится у молодого священника, доктора Гоцци, которому поручено его образование. В рекордное время он наверстывает упущенное. Через месяц он уже так хорошо читает, что с ним переходят к грамматике. Быстрые, даже поразительные успехи, так что вскоре учитель поручает ему следить за тем, как другие ученики готовят уроки.
И все же, если верить Казанове, он не был вундеркиндом. Ничего общего с Моцартом или Руссо, который, рассудив в том же возрасте, что прочел уже слишком много романов, перешел непосредственно к изучению Плутарха. Слишком долго длился латентный период перед его истинным рождением, эмоциональным и интеллектуальным. Огромный пробел перед пробуждением сознания. В его памяти не сохранилось ничего от первых восьми лет, проведенных в Венеции в доме бабушки Марции Фарусси, на улице Монахинь, рядом с Большим каналом и церковью Святого Самуила со старой колокольней XII века в венецианско-византийском стиле, увенчанной пирамидальным шпилем, покрытым позеленевшими от времени свинцовыми листами. Именно в этой церкви Святого Самуила 5 мая 1725 года был крещен Джакомо Джироламо Казанова, родившийся 2 апреля на улице Комедии, ставшей потом улицей Ка’Малиперо, в двух шагах от театра Сан-Самуэле. Если захотеть действительно понять Джакомо Казанову, нужно обязательно погулять подольше по этому невзрачному кварталу со скромными узкими переулками, темными и переплетенными друг с другом, над которыми отныне восстало во всем своем эстетско-коммерческом великолепии отреставрированное палаццо Грасси. Нужно пройти по улице Комедии, выходящей на площадь Святого Самуила, на которой мраморная доска, установленная заботами городского турбюро, напоминает прохожим (которые, кстати, никогда здесь не ходят) о рождении знаменитого венецианца: «В одном из домов на этой улице 2 апреля 1725 года родился Джакомо Казанова». Нужно было родиться в темном и тесном переулке этого бедного квартала, чтобы до такой степени вожделеть яркой пышности европейского космополитизма и роскошного великолепия королевских дворов.
В «Кратком очерке моей жизни», написанном под конец его существования, чтобы ответить на наивные вопросы из писем двадцатидвухлетней девушки, влюбившейся в старого обольстителя, некой Сесиль фон Роггендорф, он привел некоторые дополнительные подробности относительно своего рождения: «Мать произвела меня на свет в Венеции 2 апреля, на Пасху 1725 года. Накануне ей сильно хотелось раков. Я их очень люблю». Не будем задерживаться на том факте, что 2 апреля 1725 года не приходилось на Пасху, выпав на понедельник, и что Казанова слегка подтасовал листы календаря, чтобы облачиться в одежды Спасителя и обеспечить себе с самого рождения славное воскрешение путем написания мемуаров. Запомним только, что он останется верен своей матери (к которой не питал нежных чувств), по меньшей мере, через насмешку, своей любовью к ракам, грязного зеленовато-серого цвета, когда они сырые, но изящно красным, когда сварены. Очевидно, что под лукавым пером Казановы они являются едва прикрытым метафорическим изображением красавиц, которых от желания бросает в жар и которые розовеют, даже более, в пылу наслаждений. Даже если вы не передали мне ничего другого, дражайшая матушка, по меньшей мере я обязан вам этим выраженным вкусом к самой нежной краснеющей плоти. Да, он всегда будет сильно ее хотеть, он будет любить ее безумно.
За тринадцать месяцев до того, 27 февраля 1724 года, его родители, Гаэтано Джузеппе Джакомо Казанова и Джованна Мария Фарусси, сочетались браком в церкви Святого Самуила в присутствии епископа Пьетро Барбариго. Брак по любви, в этом нет сомнений, поскольку Гаэтано решился похитить свою милую, чтобы жениться на ней, шестнадцатилетней красавице, родившейся в августе 1708 года на Бурано и потому получившей красивое прозвище Буранелла. В самом деле, занимаясь отвратительным ремеслом актера, отвергаемым и презираемым венецианцами в той же мере, в какой они обожали театр, он не имел никакой надежды получить благословение ее отца, сапожника Джироламо Фарусси, и ее матери Марции. Если последняя, поставленная перед свершившимся фактом, покричала-покричала, да и простила, отец в буквальном смысле слова умер от горя, как сказал Казанова, хоть ему и противоречит церковная книга прихода Святого Самуила, запись о браке Гаэтано в которой свидетельствует, что отец невесты к тому времени уже скончался.
По правде говоря, Гаэтано Казанова в этом квартале знала каждая собака: он не пользовался хорошей репутацией и считался субъектом сомнительных нравственных устоев. Родившись в Парме в 1697 году и прибыв в Венецию году в 1723-м, он поступил актером в театр Сан-Самуэле, принадлежавший богатому патрицианскому семейству Гримани. По всей видимости, всем в приходе была известна (возможно, он сам неосторожно и бестактно этим хвалился) история его шумного романа с актрисой Джо-ванной Беноцци, побывавшей замужем за Франческо Баллетти и Франческо Кальдерони. Следуя за этой артисткой по прозвищу Фраголетта (Клубничка), Гаэтано и оставил в 1715 году Парму и свою семью и стал танцовщиком, потом актером. Не будем ставить под сомнение соблазнительность и талант Фраголетты, которая, по словам самого Гольдони, была неподражаема в амплуа субретки, но все же она, родившись в 1662 году, была на 35 лет старше своего молодого любовника. Встретив в 1748 году в Мантуе бывшую актрису, которая двадцатью пятью годами раньше была любовницей его отца, Казанова создал ужасный, убийственный ее портрет: «Ее убор не поразил меня так, как она сама. Несмотря на морщины, она белилась и румянилась; сурьмила брови. Открывала взгляду половину своей дряблой груди, которая вызывала отвращение именно потому, что показывала, чем была когда-то, и две вставные челюсти. Ее прическа была всего-навсего париком, плохо прилегавшим на лбу и висках; руки ее дрожали так, что и мои затряслись, когда я их пожал. Я с ужасом видел следы уродливой старости на лице, которое некогда привлекало любовников, прежде чем увянуть от времени. Выводило же меня из себя детское бесстыдство, с каким отрицалось время и выставлялись мнимые прелести» (I, 451).
Страшное обвинение! Однако, если верить Карло Гольдони, также видевшему ее в Мантуе в апреле того же 1748 года, Фраголетта «в свои восемьдесят пять лет еще сохранила следы красоты и довольно живые и острые проблески ума». Если Казанова присочиняет, то, несомненно, потому, что сводит старые счеты со своим детством, со своими родителями, с первой подругой своего отца. Он уже отмечал, что во времена своей любви к театральной субретке его отец выделялся «своими нравами еще в большей степени, чем своим талантом». Надо думать, что положение молодого титулованного любовника стареющей актрисы, которой уже далеко за пятьдесят, вызывало пересуды у публики, более позабавленной, чем действительно возмущенной. То ли из непостоянства, то ли от ревности, скорее же всего просто-напросто от отвращения, он бросил ее и уехал в Венецию, хотя с театром не расстался. Несмотря на все свои торжественные обещания теще никогда не заставлять супругу выходить на подмостки, он вскоре и ее увлек на это поприще. Едва ли год прошел после рождения Джакомо, как его мать передала ребенка бабушке, отправившись с мужем в Лондон, где состоялся ее дебют. Вернувшись в Венецию, она играла в театре Сан-Самуэле.
И все же, судя по всему, Гаэтано считал, что проклятое актерское ремесло поломало ему жизнь, поскольку на смертном одре он отрекся от театра. Тем не менее, хотя ни один из его детей не вышел на подмостки, за исключением сестры Казановы Марии Маддалены, некоторое время бывшей танцовщицей в Дрездене, его супруга с успехом продолжала карьеру актрисы.
Теперь лучше понимаешь, почему Казанова ни словом не обмолвился о первых восьми годах своей жизни. Если орган памяти наконец развился в нем и его жизнь как мыслящего существа началась лишь в августе 1733 года, в самый год смерти его отца, то этим он хотел намекнуть будущим и предполагаемым читателям, что родился не от своих отца и матери, а, если так можно сказать, в крови и через нос, однажды в Мурано, в их отсутствие и в присутствии единственной родственницы – своей дорогой бабушки по матери, более чем через восемь лет после того, как его мать разрешилась от бремени. Весь театральный период своих родителей, связанных единым делом и выступающих на сцене за рубежом, период своего «подкидышества» в Венеции у Марции, он предает забвению. Не помнит о нем, потому что не хочет помнить. «Отец с матерью никогда со мной не разговаривали», – пишет он. Странное уточнение, которое выдает его с головой, поскольку наводит на мысль о его жизни в семье до достижения восьми лет и четырех месяцев: через пять месяцев после того отец его умер и, таким образом, всякие разговоры с сыном оборвались окончательно.
Если Казанова ничем не обязан своим родителям – отцу, преждевременно ушедшему из жизни через пять месяцев после его настоящего рождения, и матери, веселой и сияющей красотой, но легкомысленной и наслаждающейся доступными удовольствиями, несколько ветреной и поверхностной, готовой переложить на чужие плечи заботу о воспитании и образовании Джакомо, – значит, он всем обязан самому себе. Мало радости быть отпрыском простых комедиантов, скоморохов, фигляров, которым толпа рукоплещет, пока они на сцене, но презирает, как только они с ней смешиваются. Какими бы театралами ни были венецианцы XVIII века, профессия актера считалась у них низменной и общественно неприемлемой.
Да и верно ли, что Гаэтано его отец? Уже в 1755 году, в романе под заглавием «Удачливый комедиант», полном намеков, где Джакомо Казанова выведен в образе г-на Ванезио (то есть Счастливчика), аббат Кьяри, иезуит, бывший, надо сказать, личным врагом будущего автора «Мемуаров», называет его незаконнорожденным и живописует его яростными мазками: «Происхождение г-на Ванезио было неизвестно, но его называли незаконнорожденным. Он был хорош собой, с оливковым цветом лица, приятных манер и невероятно самоуверен. Это была одна из тех звезд, которые сияют в обществе, хотя неизвестно, откуда взялся их блеск, на что они живут, ничего не делая, не имея ни состояния, ни дела, ни способностей (…). Влюбленный до одержимости во все заграничное, он говорит лишь о Лондоне и Париже, как будто, кроме этих славных столиц, в мире больше ничего и нет. Вечно ухоженный, как Нарцисс, он ходит, выпятив грудь; пузырь не столь надут воздухом, как он – тщеславием; мельница не столь суетлива. Он беспрестанно всюду протискивается, волочится за всеми женщинами подряд, улучает благоприятные случаи, раздобывает деньги или использует любовные победы для своего продвижения. Со скупыми он прикидывается алхимиком, с красавицами – поэтом, с вельможами – политиком, со всеми – всем. Но на взгляд разумных людей, он добивался лишь того, что выставлял себя на посмешище». Казанова никогда не простит этой безжалостной карикатуры. В 1782 году он издал у Модесто Фенцо такой же роман-ребус, озаглавленный «Ни любви, ни женщин, или Вычищенные конюшни», из-за которого, кстати, был вынужден отправиться в изгнание. В этом романе он дает понять, что на самом деле он – побочный сын богатого патриция Микеле Гримани, сенатора, хозяина великолепного дворца Гримани на углу Руга Джуффиа и Рио ди Санта-Мария-Формоза, прославившегося своей роскошной коллекцией произведений искусства, и владельца не менее трех театров – Святого Самуила (где играли его отец и мать), Святого Иоанна Златоуста и Святого Бенедикта. Правду сказать, могущественное семейство Гримани вездесуще во время детства и отрочества Казановы. Брат Микеле, Алвизе Гримани, стал строгим и властным опекуном Джакомо. Три брата Гримани – Микеле, Алвизо и Дзуане – будут рядом с супругой и детьми у одра умирающего отца. Разглядел ли Казанова в этом постоянном покровительстве, порой навязчивом и неудобном, признание в скрываемом родстве? Вообразил ли он, что Микеле Гримани обладал неким «правом господина» в отношении актрис, служащих в его театре? Выдумал ли он небольшой семейный роман со всеми полагающимися тайными любовными приключениями и побочными детьми, чтобы в своем воображении найти себе гораздо более презентабельного и достойного отца? Смазливая актриса, обрюхаченная знаменитым венецианским сенатором, – это уже совсем другое дело! Разве не поговаривают тут и там, что его брат Франческо, второй сын Гаэтано и Дзанетты, родившийся в Лондоне в 1727 году, – плод трудов принца Уэльского, будущего Георга II? Не говоря уже о Гаэтано Алвизио, его втором брате, родившемся в 1734 году, уже после кончины его отца! Почему аббат Гримани однажды заговорил с его матерью о том, чтобы «наделить вотчиной» эту бездарь, чтобы того можно было посвятить в протодьяконы, а затем в священники ad titulum patrimonii, тогда как в отношении его самого никаких подобных разговоров не велось? Почему брату такое преимущество, тогда как Джакомо одно время тоже прочили в священники? Подобное предпочтение – уже косвенное признание родства. Заметив, что Джакомо приходил в ярость и отчаяние, когда при нем упоминали о его брате, «которого он считал лишь за сводного», Фелисьен Марсо подумал, уж не решил ли Казанова, отличавшийся живостью ума, «нимало не сомневавшийся в законности собственного происхождения и будучи убежден в том, кто именно был отцом его брата, взбесившись на Гримани и рассуждая совершенно очевидным образом, в некотором роде путем взаимопроникновения, не решил ли он распространить отцовство Гримани и на самого себя?»[15].
Вообще-то, в момент написания памфлета, у него возник острый конфликт с одним из членов семьи Гримани, которых он всегда считал своими естественными «покровителями». Во время своего последнего пребывания в родной Венеции, в мае 1782 года, Казанова повстречал у Карло Гримани, сына Микеле, одного офицера, находившегося на службе при Туринском дворе и звавшегося Карлетти. Тот рассказал ему, что генуэзский дипломат Карло Спинола, секретарем которого Казанова стал после неудачного дебюта в театре, за несколько лет до того заключил с ним пари на двести пятьдесят цехинов, что женится на дочери князя Эстергази. Спинола пари проиграл, однако долг не уплатил. Карлетти, знавший о должности Казановы при Спиноле, попросил его вмешаться и напомнить своему хозяину о долге, побудив этот долг погасить. Он пообещал неплохое вознаграждение в случае успеха, и Казанова, в то время сам сидевший без гроша, согласился выполнить унизительное поручение. Однако прежде чем дать согласие, он принял предосторожности, заручившись однозначным уверением в том, что получит вознаграждение, если преуспеет в задуманном, хотя точная сумма, полагающаяся за труды, ему названа не была. Поскольку свидетелем сделки был справедливый Карло Гримани, выступавший своего рода гарантом, у Казановы не было причин для недоверия. Карлетти передал ему оригинал векселя с пожизненным обеспечением, который должен был подписать Спинола, и Казанова полетел домой, добился подписания бумаги и вернулся в кратчайшие сроки к Гримани, чтобы отчитаться в быстром успехе своей миссии. Последующую сцену до нас донес оставшийся неизвестным свидетель: «Офицер взял бумагу, прочел, изучил и признал, что все в порядке: “Все верно, – сказал он, – и я должен уплатить свой долг”. Достав из бумажника какое-то письмо, он передал его Казанове, тот распечатал его и нашел в нем благодарность в размере процентов с капитала пожизненной ренты, гарантированной головой Спинолы. Казанова был поражен и заявил, что положенное ему вознаграждение – не в этом. Карлетти же заявил, что выполнил свои обязательства, что именно таким образом и собирался его отблагодарить и полагал, что сдержал свое обещание. “Да уж! – в ярости воскликнул Казанова. – Да! Действуя такими методами, невозможно не сдержать слова!” При этих словах Карлетти тоже пришел в бешенство, толкал и оскорблял Казанову, называя его самыми низкими и гнусными именами, и Казанова, не в силах сдерживаться, направился к двери, чтобы уйти. Однако ему помешал Гримани, который, присутствуя при диалоге и потасовке, все время молчал, первое же сказанное им слово было повелением Казанове остаться, поскольку он не прав. Казанова остался, Карлетти же продолжал обращаться с ним самым жестоким и кровавым образом. В конечном счете оба ушли, дело получило огласку, толки были многочисленные, мнения разошлись: кто защищал одного, кто другого, но все в один голос заявляли, что Казанова показал себя самым трусливым, самым малодушным из людей, позволив безнаказанно оскорблять себя подлейшим образом. С этой печатью на лбу секретарь Спинолы превратился в предмет всеобщей насмешки, и даже в тех немногих домах, где его принимали, двери перед ним закрылись».
Такое оскорбление пришлось очень некстати для Казановы, переживавшего в 1782 году черную полосу. Он-то надеялся с триумфом вернуться в Венецию, исколесив вдоль и поперек всю Европу, а вышло совсем наоборот. Ему было тем более больно, что его не поддержал Карло Гримани. Тогда Казанова схватился за единственное оружие, которое у него оставалось для борьбы и мести, – перо. Он сотрет пятно со своей чести. Они увидят то, что увидят, когда прочтут его «Ни любви, ни женщин, или Вычищенные конюшни». Они горько пожалеют о своем бесстыдстве, когда прочитают его рассказ об одном из подвигов Геракла – очистке авгиевых конюшен. Все узнают их под прозрачными масками мифологических героев. Он изобразит Карло Спинолу царем Авгием, Карлетти – брешущим псом, Микеле Гримани – Амфитрионом, а Карло Гримани – Алкидом, подлым незаконнорожденным, не имеющим никакого права на имя своей знаменитой семьи. Граф Алемано Гамбара станет Эвристеем, Андреа Меммо – Агесиласом и синьора Каррара – Омфалой. Эконеоном же будет сам Казанова. Это будет самый язвительный из памфлетов. Опьяненный бешенством, он сам себя подбадривал и подначивал. Увлекшись, чтобы извалять в грязи Микеле Гримани, он представил самого себя плодом его любви с некой Иокастой, дочерью атлета Кореба, которая была, разумеется, его собственной матерью, тогда как Карло был якобы плодом тайной связи его супруги с Юпитером, иначе говоря – Себастьяном Джустинианом. За престарелым обольстителем влачился теперь в Венеции шлейф столь сомнительной репутации, что лучше было быть сыном Микеле Гримани, чем отцом Джакомо Казановы! Басня на античный манер, детская и обидная, тонкостью не отличается. Вот, например, гадкий Карлетти в образе брешущего пса, плода отвратительного кровосмешения между Клименом и его родной дочерью Гарпалисой, под началом которого находятся двенадцать тысяч страшных кобелей: «Во главе их был пизантиец, который мог показаться обычным смертным, но взгляд его, звуки, исторгаемые из его груди, и собачьи повадки выдавали в нем пса для тех, кто, изучая предмет, рассматривают его внутренние качества, прежде чем дать определение. Он выражал свои чувства на языке своей родины, но только лаем; оружием, которым он обычно пользовался в нападении, были его клыки, и укусы его были ядовиты. Нюх заменял ему осязание, и именно этому чувству он был обязан лучшим наслаждением, когда обнюхивал зад красивых самок, при виде которых он чувствовал, как пробуждаются в нем собачьи инстинкты. Его кожа была оливковой и мохнатой, как у дворняги; в том месте, где и положено собакам, у него рос хвост длиной в три ладони. Его мать, когда произвела его на свет, и его сестра Гарпалиса хотели убрать у него этот отросток, однако оставили, зная по опыту, что такое усекновение стоило бы ему жизни. Чтобы скрыть от глаз это уродство, он взял в привычку привязывать его между ног. Благодаря тунике, эта тайна оставалась нераскрытой для всех непосвященных». Неужели же Казанова до такой степени был озабочен и уязвлен своим плебейским происхождением, чтобы сочинять столь жалкие и гнусные сказки!
Теперь, работая над «Историей моей жизни», старый Казанова больше не верит в возможность родства с патрициями, да он и всегда знал, что это всего лишь нелепая и утешительная химера, которую ничто никогда не подтвердит. Он улыбается воспоминанию о том, что выдумал, чтобы потопить обоих Гримани – Микеле и Карло. Как он был слеп! Частным образом он еще худо-бедно пытается втирать очки; привирает понемножку, например, своему другу принцу де Линю, который, разумеется, не преминет черным по белому написать: «В своих мемуарах он признает себя авантюристом, сыном неизвестного отца и плохой актрисы из Венеции». Он перечитывает первые страницы рукописи. Ах, какую прекрасную родословную он себе сочинил! Настолько же блестящую и причудливую, как и не подлежащую проверке – это самое важное. Некое предзнаменование собственной карьеры. Никто в будущем ее не опровергнет. С отцовской стороны: семья испанского происхождения, восходящая к некоему Якобу Казанове, секретарю короля Арагона Альфонса V, который похитил в Сарагосе, в 1428 году, монахиню по имени Анна Палафокс и сбежал с ней в Рим. Итак, все началось красиво, с безумной страсти и самого что ни на есть романического поступка! Хорошее начало. Благодаря вмешательству дяди, дона Хуана Казановы, испанского доминиканца, магистра Священной Коллегии, епископа Сердоны и Эльны, впоследствии ставшему кардиналом (надо же иметь влиятельных людей среди предков, если не хочешь прослыть разночинцем!), папа Мартин III освободил Анну от обета и благословил их брак. Ребенок, родившийся от их союза, дон Хуан, женился на Элеоноре Альбини, от которой имел сына по имени Марко Антонио. Автор «Мемуаров» убежден, что все начитанные люди узнают в этом Казанове итальянского поэта конца XV – начала XVI века: литератор среди предков лишь украсит собой всю картину! Убив офицера на службе неаполитанского короля Фернандо I, он в 1481 году вынужден бежать в Комо, а затем погибает во время путешествия с Кристофором Колумбом. Сын, поэт и секретарь кардинала Помпея Колонна, в свою очередь, вынужден покинуть Рим и укрыться в Комо из-за сатиры на Юлия Медичи, который, став папой под именем Климента VII, простил его. Вернувшись в Рим, он умер там от чумы, а полгода спустя его супруга Абондия Реццоника родила Жака Казанову, который стал во Франции полковником армии под командованием Генриха III, короля Наваррского, выставленной против Алессандро Фарнезе. Решительно, все Казановы, которые станут его предками, обладают редкой способностью служить самым могущественным…
IV. Учиться
Нет в мире человека, которому бы удалось узнать все; но каждый человек должен стремиться все знать.
Будучи в Падуе в июле 1739 года, президент Парижского парламента де Бросс отметил, что «первая и главная статья – университет; но, по правде говоря, он был хорош прежде. Сегодня, когда университеты пали, этот пал еще ниже прочих. Из всех коллежей, бывших в Падуе, остался лишь один, по прозванию “Бык”, где показывают красивый двор дорического ордера, выстроенный Палладио, анатомический театр, похожий на колодец, в глубине которого на стол кладут труп; вкруг колодца уходят вверх ряды, где учащиеся могут собраться до пятисот человек и посмотреть на демонстрацию, не стесняя друг друга в этом небольшом пространстве, ибо каждая часть того, что показывают, хорошо освещена специально выставленным светом. Знаменитый Фра Паоло, сервит, придумал эту форму и создал чертежи. Зал естественной истории наполнен всеми вещами, относящимися к сему предмету, и скелетами всяческих животных». Нет никаких сомнений, что Казанова не раз бывал в этом анатомическом театре и присутствовал при вскрытиях, когда был студентом в Падуе. Он чувствовал в себе настоящее призвание к медицине, но его заставляли изучать право, чтобы стать адвокатом, более того, адвокатом церковным, поскольку он прирожденный оратор. Этому дару можно было бы найти еще лучшее применение в медицине, нежели в юриспруденции, цинично замечает Казанова: «Если бы обо всем рассудили как следует, мне бы позволили стать врачом, где шарлатанство производит еще большее действие, чем в ремесле адвоката» (I, 52). Мало же уважения питал он к современной ему медицине. Своего мнения о докторах и хирургах он так никогда и не переменил: точно так же, как «сутяжничество разоряет гораздо больше семей, чем поддерживает, от рук врачей умирает гораздо больше людей, чем выздоравливает».
Проникшись недоверием к врачам, он будет делать все возможное, чтобы избегнуть их известной и убийственной некомпетентности. Порой даже прибегая к силе оружия. В Вене, в мае 1753 года, у него случилось сильное несварение желудка. Он не принял врача, явившегося его лечить. Тот вернулся, на сей раз вместе с хирургом, пришедшим ему на помощь, с твердым намерением сделать пациенту кровопускание без его согласия. Когда Казанова увидел ланцет, которым намеревались вскрыть ему вену, он схватил один из двух пистолетов, лежавших на ночном столике, и выстрелил в хирурга, сбежавшего вместе с врачом. За четыре дня диеты, не принимая ничего, кроме воды, он полностью выздоровел. Будучи в Польше, он 5 марта 1766 года сражался на дуэли с Браницким и был серьезно ранен из пистолета в левую руку. Рана, поначалу показавшаяся легкой, вызвала осложнения. Пуля вошла в пясть руки под указательным пальцем и раздробила первую фалангу. «Хирург-авантюрист» извлек ее и сделал рану вдвое больше. Та загноилась, вся рука распухла. Того и гляди начнется гангрена. Три хирурга посовещались и при виде зеленовато-бледной опухоли решили отнять ему руку. Казанова отказался и выставил их, несмотря на проявленное ими упорство. В конце концов он вылечился безо всякой операции.
Всю свою жизнь Казанова с удовольствием будет демонстрировать свои неоспоримые познания в области медицины. Кстати, это была одна из его излюбленных тем для разговора. «В Варшаве Казанова говорил с Тадини о вопросах офтальмологии, в частности, о вживлении линз под роговицу для лечения катаракты. С доктором Альгарди, врачом принца-епископа Аугсбургского, он рассуждал о том, должен ли врач говорить больному правду или же лгать, скрывая от него известие, которое способно еще укоротить его жизнь, и без того находящуюся в опасности», – пишет Лидия Флем[16]. Уже в самом конце своей жизни, изгнанный в библиотеку замка Дукс, он даже напишет «Письма ученого убиквиста к доктору О’Рейли, ирландскому врачу» – рукопись из шестнадцати страниц, на которых он спорит с лечащим его врачом по поводу анатомии пищеварительной системы и, чтобы придать вес своему доказательству, предполагает, будто его врач сам страдает диареей, не проходящей уже три года, – предметом их полемики. Казанова никогда не упускал случай посоветовать друзьям известные ему снадобья, а то и самому взяться за их лечение, когда в том возникала необходимость. Он никогда не проявлял ни малейшего отвращения перед болезнью. Когда в Падуе отекшее лицо юной Беттины покрылось оспинами, которые вскоре начали сочиться, почернели и источали гной, отравляя воздух, никто не выстоял, кроме Казановы, ходившего за ней. В Париже к его услугам прибегла герцогиня Шартрская, чтобы избавиться от мерзких прыщей, уродовавших ее лицо.
Параллельно Казанова с редким упорством уклонялся от забот медиков-профессионалов, полагаясь только на самого себя. Он хотел быть собственным врачом. Его тело было его рабочим инструментом и орудием наслаждения. Вот почему он всегда относился к нему крайне внимательно. Когда он жил в Санкт-Петербурге, все думали, что он счастлив, и он изо всех сил поддерживал это впечатление, хотя на самом деле страдал от геморроидальных болей, не оставлявших его со времен заточения в Пьомби.
«Невыносимая периодическая боль в прямой кишке делала меня печальным и несчастным. Восьмидесятилетний врач, Сенапеос, которому я о ней рассказал, сообщил мне печальную новость о том, что у меня неполный свищ, который называют полуслепым, – пазуха, образовавшаяся в прямой кишке. Не было никакого лекарства, кроме жестокого ножа хирурга. По его словам, мне следовало, не теряя времени, подвергнуться операции (…). Думая меня утешить, он сказал, что полный свищ в анальном отверстии был обычной болезнью для всего края, где пьют замечательную невскую воду, обладающую способностью очищать тело, изгоняя из него дурные испарения (…). Этот неполный свищ, заставлявший меня жить, соблюдая диету, возможно, был спасительным для меня» (III, 415).
Даже будучи пациентом, Казанова объективно следит за обследованием, которое интересует его как своей техникой, так и в плане перспектив для его тела. Как хороший работник, он внимателен к состоянию и содержанию своего рабочего инструмента.
В том же, что касается его учения и будущей профессии, выбор был сделан в пользу права – так решила семья и покровители. 28 ноября 1737 года он записался в университет под именем Якоба Казановы из Венеции, проживающего у священника Гоцци. Четыре года подряд, до 1741 года, он ходит на лекции в юридический коллеж. Летом 1742 года он получил степень доктора права. Его диссертация по гражданскому праву посвящена завещаниям. Тема же диссертации по каноническому праву такова: «Могут ли евреи строить новые синагоги?» Меня всегда восхищала эта юридическая тема в трактовке Казановы: он, человек неограниченной свободы и ничем не связанный в передвижении, с юридических позиций задается вопросом о правах евреев, загнанных Светлейшей республикой в узкие рамки квартала Каннареджио, первого гетто в мире (даже само слово «гетто» венецианского происхождения: оно обозначает плавильню, некогда находившуюся в этом квартале).
Казанова-юрист – это лишь одна из граней многочисленных познаний и навыков Джакомо, который больше всего на свете любит целыми днями сидеть в библиотеках. Всю свою жизнь он будет проявлять ненасытное любопытство, многогранное и бессистемное. И все же не стоит называть его беспорядочные познания никчемными и поверхностными. Чтобы пытаться, как он под старость, решать некоторые математические задачи, мало быть неофитом с легким налетом учености. Его проблема в другом: некотором смешении всех областей, происходящем от невероятной разнородности его познаний. Такой же мотылек в познании, как и в любви. Этот кавардак еще усугубляется его манерой смешивать рациональное и иррациональное, науку и алхимию. Хотя не нужно торопиться с ходу презирать алхимию и оккультные науки.
Он принимался за самые разные отрасли человеческого знания с поразительной ненасытностью. Это блестящий лингвист. Он превосходно знает латынь, но так и не овладел греческим, который учил в одиночку, только по грамматике. В Риме он выучит французский, в котором будет совершенствоваться в Париже под руководством лучших учителей. Он обладал блестящими познаниями в богословии, имел представление о логике перипатетиков и о космографии по старой системе Птолемея. Он выказал себя способным историком, изучая бурную историю Польши. В политике он отстаивал принципы действия правительства Светлейшей республики, опровергая критику венецианского сената, высказанную в предыдущем веке Амело де Ла Уссе, и интересовался спором между Венецией и Голландией. Он даже участвовал в качестве психофизиолога в полемике, развернувшейся в Болонье о том, какое место занимает матка в мыслях и поведении женщин. Если перечислить все интересы Казановы, получается список в стиле Льюиса Кэрролла. Однако надо признать, что он часто прибегал к своим более чем разнообразным познаниям, чтобы выпутаться из определенных ситуаций в обществе и получить материальную помощь.
Под конец жизни, в Дуксе, в ученом одиночестве, более всего опасаясь неумолимой скуки, Казанова судорожно плодил рукопись за рукописью. Если надо, он станет экономистом. Когда в июне 1789 года император Иосиф II объявил конкурс диссертаций о ростовщичестве и способах с ним бороться, он по совету графа Ламберга решил попытать счастья. Надо сказать, что его финансы тогда находились в плачевном состоянии, а победителю конкурса была обещана заманчивая сумма в пятьсот дукатов, которые пришлись бы очень кстати. Кроме того, он всегда был специалистом по деланию долгов, и ростовщики ему не раз обходились очень дорого. Уже в июле был готов труд под заглавием «Рассуждение о ростовщичестве и способах покончить с ним, не прибегая к репрессивным мерам». К несчастью, император совершенно некстати скончался, и конкурс так и не состоялся. Приз присужден не был, к отчаянию сотни нуждающихся грамотеев, попытавшихся в очередной раз найти решение для непростой проблемы ростовщичества.
После экономики – астрофизика. В письме к Иоганну Фердинанду Опицу, инспектору финансов в Часлау, к тому же литератору и математику, Казанова рассказал о работе, над которой он трудился, с эпиграфом: In pondere et men-sura (измеряй и взвешивай) – некоем научном опыте, относящемся одновременно к физике и астрономии: «Речь идет о гравитации и измерении. Я хочу доказать не то, что орбиты небесных тел нерегулярны, но что их возможно измерить лишь в средних величинах… Я также доказываю, что все закрепленные оси совершают нерегулярные колебания… Я доказываю, что свет не является ни телом, ни духом. Подвергаю критике не только Тихо Браге, но и Кеплера с Ньютоном… Я мог бы прислать Вам свою рукопись и позволить Вам напечатать ее в Праге или ином месте… Я бы продал книгу либо Вам, либо издателю за пятьдесят флоринов…» Казанова упорно гнул свою линию, но Опиц осторожно уклонился под предлогом того, что «обременен семейством» и все такое.
В Дуксе Казанова с особенным упорством и ожесточением занялся геометрией и математикой. Чрезвычайная сложность задач обладала тем преимуществом, что занимала время. В этом занятии не было ничего удивительного, ведь Казанова всегда любил цифры и вычисления. Для начала он принялся за знаменитую античную задачу. Мы помним, что оракул острова Делос предложил афинянам, чтобы остановить эпидемию чумы, удвоить вес золотого кубического алтаря Аполлона, используя только линейку и циркуль. Эта задача не могла быть разрешена математическим путем, а следовательно, и практически. 15 октября 1789 года Казанова написал первому министру прусского короля, без всякого сомнения надеясь на награду, что после тридцати девяти лет работы решил эту сложную задачу древности, по поводу которой напишет три брошюры, чтобы объяснить, как ему это удалось. Наблюдая в Дрездене за печатанием, в мае 1790 года, «Решения делосской задачи», он затем опубликовал «Следствие к удвоению куба» и «Геометрическое доказательство удвоения куба». Неужели же он не получит значительного вознаграждения от прусского правительства, найдя наконец решение задачи, которого нетерпеливо ждали уже две тысячи лет? К несчастью, несмотря на многочисленные споры, в которые вступил ученый мир, безгранично доверяя точности расчетов Казановы, шумных восторгов не последовало. Да и Казанова в конце концов сам признал свою ошибку и повинился в ней. Хотя ему и не удалось найти числового решения, как он уверял, он все же не оконфузился в своем доказательстве, по мнению ученого Чарлза Генри, тщательно изучившего его работы: «Казанова сначала уверовал, что дал точное решение; однако он мог дать лишь решение приблизительное… Но не стоит судить его слишком строго. Большинство решений, предложенных для удвоения куба в древности и в новые времена, предполагают использование линейки и циркуля. Однако оба эти инструмента, считавшиеся точными, что необходимо для геометрических построений, таковыми не являются».
В апреле 1793 года Казанова заинтересовался исчислением времени и календарем, разродившись рукописью в пятьдесят шесть страниц под заглавием «Мечтания о средней величине нашего года, согласно грегорианской реформе». Все аспекты данной проблемы тщательно рассмотрены. Как всегда, все области знания перемешаны между собой, поскольку наблюдения астрономического, физического и арифметического плана чередуются с политическими, историческими и религиозными соображениями и даже доводами эмоционального характера. Он указывает на ошибку в двадцать минут за столетие в нашем календаре и в завершение приводит рассказ о своих беседах с Екатериной II на эту тему.
Едва покончив с этим трудом, он обращается к филологии и лексикологии, что позволяет ему одновременно размышлять об истории и сводить счеты с Французской революцией. В язвительном памфлете, написанном по-французски и озаглавленном «Леонарду Снетлагену, доктору права Геттингенского университета, от Джакомо Казановы, доктора права Падуанского университета», – его последней работе, опубликованной в Дрездене в 1797 году, – Казанова яростно нападает на то, что кажется ему одним из главных орудий революционного обмана, а именно неумеренное и безответственное использование словесных порождений: неологизм как лингвистическая форма политического террора. Для Казановы, в последние годы своей жизни бывшего прежде всего писателем, все проходит через язык. Никому не известный Леонард Снетлаген, который подвергается уничижительной критике в этом памфлете, имел несчастье опубликовать в 1795 году «Новый словарь французского языка, содержащий внове созданные выражения французского народа. Приложение к Словарю Французской академии или к любому другому лексикону», позволивший Казанове дать выход всему своему полемическому пылу. Похоже, что эта тема была тогда в моде, поскольку в 1790 году уже вышел «Национальный и анекдотический словарь для толкования слов, которыми наш язык обогатился со времен Революции, и понимания новых значений, которые получили некоторые старые слова». Так что не один венецианец сетовал на воинствующую манию неологизмов у революционеров: в один год с Казановой Лагарп, один из самых ожесточенных гонителей новояза, опубликовал работу под названием «О фанатизме в революционном языке» с подзаголовком «О гонениях со стороны варваров XVIII века на религию и ее проповедников».
Странное произведение – брошюрка «Леонарду Снетлагену». Невероятная смесь отвращения и восторга, неприятия и разочарованной любви, что особенно чувствуется, когда речь заходит о французском народе. Ибо всей душой ненавидя кровавые ужасы Революции, Казанова не может забыть, что он беззаветно влюблен во французскую цивилизацию. «На всем земном шаре нет народа, более пленительного, чем французский; и все потому, что он наделен большим умом, чем все остальные. Именно этот ум, опьяняя его, не оставляет ему времени на раздумья и заставляет попадаться во все расставленные ловушки. Он друг и раб всех, кто ему льстит, он заложил им душу, стал их жертвой и слепым проводником любой их воли. Храбрый вследствие своего легкомыслия и веселости, неутомимый, доверчивый до крайности, он, не удостаивая ничего предвидеть, распевая, насмехается над будущим. Этот народ стал обожателем своей родины, так и не узнав до революции, ни что такое родина, ни самого этого слова. Он поочередно пьян и жесток, трезв и человечен, способен на любой героический поступок, когда велеречивый льстец распалит его воображение; но легкомыслен и непостоянен до такой степени, что переходит от одного состояния к противоположному, часто ни на миг не задерживаясь посередине. То, что он неспособен на дружбу, видно по всему его поведению за последние семь лет. Если бы он читал или умел читать, то и на сутки бы не оставил статую Вольтера в так называемом Пантеоне». Какая злоба! Какая горячность! Какая ненависть! Это неистовство можно понять лишь потому, что сам Казанова не чужд народу, в безликости которого он может в любой момент увязнуть и раствориться. «Народ – его нищета, суровый труд – угрожает ему, как невыносимый образ судьбы, которая могла бы стать его собственной. Казанову ничто не отделяет от народа: ему также незнакомо привилегированное рождение и гуманистическое “сверх-я”»[17], – пишет Шанталь Тома. Он провел всю свою жизнь, пытаясь перейти на сторону могущественных и благородных, чтобы выпростаться из среды своего происхождения. И если теперь к власти придет народ – какой обман! Какая насмешка! Какое падение!
На его взгляд, новые слова не были созданы «французской нацией или народом, но ораторами и некоторыми бездарными журналистами, которые, ut faciant rem[18], всегда старались только ослепить, употребляя способы, которые могли бы только рассмешить, если бы Франция не корчилась в конвульсиях». Подавляющее большинство этих слов, порожденных журналистами, которые «пишут, лишь чтобы выплеснуть свою злобу», уже обречены. Они долго не проживут. Это мертворожденные слова, которым суждено исчезнуть вместе с драматическим событиями, при которых они появились на свет.
На самом деле выбор Казановы более субъективен, нежели строго научен. Его лексикография автобиографична. В некотором смысле, это его автопортрет. Не закрываясь от всего нового, он не отвергает с ходу все новые слова. Если недавно выдуманный термин действительно соотносится с новой реалией, Казанова его принимает. Например:
ТЕЛЕГРАФ: «Слово новое по справедливости, поскольку сама тема нова».
По определению, все слова, так или иначе относящиеся к Революции, высмеяны и осуждены безапелляционно:
ОБВИНИТЕЛЬ: «Его новизна заключается во всех видах обвинителей, которых учредили при новом режиме».
РАВЕНСТВО: «Народ, вечно веселый, несмотря на угнетающую его нищету, должен постоянно над ним потешаться. Наверное, ему любопытно узнать, что означает сие слово, поскольку перед его глазами одни лишь неравенства».
ГИЛЬОТИНА: «О счастливый и возвышенный народ, стоящий выше всех предрассудков, которому не страшно ни одно оскорбление! Он со смехом выкапывает мертвецов, ест человеческое мясо и находит его превосходным, дает прозвище “укороченного” добрейшему королю Людовику XVI, как он прозвал ранее “Возлюбленным” его предшественника».
ЯКОБИНЕЦ: «Невезучее слово, настоящее проклятие для королей».
САНКЮЛОТ: «Существительное, от комичного звучания которого можно животики надорвать. САНКЮЛОТИДА, великий праздник санкюлотов, – уж и вовсе чистая нелепица».
Словно случайно (в его возрасте уже не меняются), он не может удержаться, чтобы не позабавиться над словом САНЖЮПОН[19]. «Это слово тоже не лишено очарования, оно даже не столь неприлично, как санкюлот, ибо, в конечном счете, отсутствие нижней юбки не исключает присутствие верхней». Но тотчас злоба возобладала над шуткой: «Я не знал, что существуют именуемые сим словом инсургентки. Счастливая революция!»
Пока же Джакомо еще очень молод, Революция только впереди, и ему надо учиться почти всему. Не следует думать, что навыки к наслаждению врожденные. Это занятие требует не меньше познаний, чем другие профессиональные призвания. По счастью, в этой области у Джакомо будет лучший наставник, какого только можно вообразить, – сам Баффо, «высокий гений, поэт в самом чувственном изо всех жанров, но великий и единственный». (I, 20). Странный вообще-то человек этот Цорци Алвизе Баффо: родился в 1694 году от патриция Дзан Андреа Баффо и Кьяри Кверини, аристократ без состояния, но древнего рода. Сделал карьеру венецианского чиновника, перейдя в 1732 году от вопросов снабжения в «криминальный отдел», самый важный и самый престижный в городе: он занимался делами об убийстве, служил апелляционной палатой, а главное – осуществлял надзор за счетоводами Венецианской республики. За исключением двух кратких периодов, в 1749 и 1760 годах, когда он был инспектором по торговле шерстью и лесом, Баффо пробыл в криминальном отделе до самой своей смерти в 1768 году.
По свидетельству современника, Баффо со своей женой, Цецилией Сагредо, жил в большом унылом дворце на площади Сан-Маурицио. Имел обыкновение посещать кафе на площади Санто-Стефано, где читал свои сочинения друзьям (по его словам, даже дож Марко Фоскарини очень ими забавлялся). Сочинения эти были более чем развратными, откровенно чувственными и даже порнографическими. Какое подспорье для начинающего распутника – уроки такого мастера, прекрасно разбирающегося в назначении всех естественных отверстий! «Что до его интереса к младшему Казанове, то в те времена было совершенно нормально, чтобы благородные владельцы театров, такие как Гримани, интересовались проблемами своих актеров и оказывали им помощь, равно как и патриции вообще покровительствовали тем, кто, не принадлежа к привилегированным классам, нуждался в помощи. По поводу этого обычая, коим широко воспользуется Казанова на всем протяжении своей бурной жизни, Джованни Росси подчеркивает, что до падения Республики у каждого венецианца, как говорили, был свой “санто-ло” (покровитель) в лице какого-либо аристократа»[20].
И вот Джакомо Казанова получает новое образование, по меньшей мере странное, ведь было решено, что он станет священником. С одиннадцати лет его одевали сплошь в черное, как аббата. Тогда аббатом называли молодого человека, уготованного Церкви, который еще не принял сан и не дал обета. Ему было запрещено сражаться на дуэлях и танцевать. 22 января 1741 года, через четыре месяца после того, как приходский священник церкви Святого Самуила, Тозелло, выбрил ему тонзуру на голове, шестнадцатилетний Казанова был посвящен патриархом Венеции в младшие чины Церкви. Начало его карьеры было многообещающим. Свою первую проповедь он произнес в четвертое воскресенье декабря 1740 года перед избранной аудиторией и имел большой успех. Ему рукоплескали, и в кошелек, куда обычно клали пожертвования, посыпались цехины и любовные записочки. Казанова уже мнил себя одним из величайших проповедников своего века. Другой случай блеснуть на публике представился ему уже в следующем году: он сочинил панегирик для праздника Святого Иосифа, 19 марта. Чересчур уверовав в свои способности, он вообразил, что ему нет нужды учить текст наизусть. К несчастью, в назначенный день он слишком плотно поел и слишком много выпил. Когда он поднялся на кафедру, в голове у него помутилось. Вступление ему еще удалось, но вот то, что было дальше, он начисто позабыл. Говорил что попало, путался, заикался. Снизу поднимался глухой встревоженный ропот. Он притворился, будто потерял сознание, упал на пол. Служки отвели его под белы рученьки в ризницу. Какое унижение! Так было утрачено желание стать самым знаменитым венецианским проповедником XVIII века.
Однако на его карьере священнослужителя это происшествие никак не отразилось. В самом деле, мать писала ему, что познакомилась с одним ученым монахом и добилась его назначения епископом Марторано в Калабрии, замолвив словечко перед королевой Неаполя, дочерью польской королевы. В ответ монах пообещал позаботиться о Казанове, который уже грезил о высших церковных должностях. Тут дело не в призвании, это – «черное» Жюльена Сореля.
Оставалось только ждать прибытия епископа. И значительную часть этого ожидания заняло заключение в форте Святого Андрея, в венецианской лагуне, за темную историю с мебелью, которую Казанова продал без согласия Гримани – ее владельцев. Неуловимый Казанова сумеет на целую ночь обмануть бдительность своих сторожей, чтобы отправиться в Венецию и как следует взгреть некоего Антонио Раццетта, доверенное лицо Микеле Гримани, которого он считал виновным в своем заточении.
Будущий епископ Марторано явился наконец в Венецию и дал указания Казанове, чтобы тот приехал к нему прямо в Калабрию. Это далекое путешествие будет полно ярких красок и впечатлений. Прибыв на место, Казанова быстро понял, во что ввязался. Просто кошмар! Трудно было себе представить более бедное и жалкое епископство. Решение принято немедленно. И речи не может быть о том, чтобы остаться в Марторано еще хоть на день. Он уехал, вернее, сбежал, проведя в епископстве всего 60 часов.
Краткое пребывание в Неаполе, затем Рим – последний капитальный пункт в образовании Казановы. Он не любит Рим (это еще мягко сказано) – двуличный и лживый город, город сплетен и интриг, слухов и клеветы, где даже послушники насмехаются над правосудием Святого отца: «Нет такого христианского католического города в мире, где люди бы меньше стеснялись в отношении религии, чем в Риме» (I, 181). Но это хорошая школа жизни для молодого человека, еще не полностью выведенного из неведения. «Человек, созданный, чтобы сколотить состояние в бывшей столице Италии, должен быть хамелеоном, способным принимать любой цвет, отбрасываемый светом в окружающую его атмосферу. Он должен быть гибким, пронырливым, мастером обмана, непроницаемым, снисходительным, часто низким, ложно откровенным, всегда притворяющимся, будто знает меньше того, что знает, разговаривающим лишь в одном тоне – терпеливом, владеющим своей физиономией, холодным там, где другой на его месте бы пылал; если ему не посчастливилось иметь веру в сердце, она должна быть у него в уме, если он честный человек, то должен тихо сносить муки от того, что выдает себя за лицемера. Если ему противно это притворство, он должен оставить Рим и искать счастия в Англии. Изо всех этих необходимых качеств, уж не знаю, похваляюсь ли или исповедуюсь, у меня была лишь снисходительность, которая сама по себе есть недостаток. Я был интересным шалопаем, довольно красивым конем хорошей породы, не выезженным, или плохо объезженным, что еще хуже» (I, 179).
Впервые, находясь вне Венеции, он проникает в высшее итальянское общество своей эпохи, состоящее из аристократов и церковников, проклиная их надменный и покровительственный вид. Становится одним из секретарей могущественного кардинала Аквавива, живет в апартаментах на четвертом этаже его дворца, на площади Испании. Входит в милость у любовницы кардинала С.Ч. Ему, сыну венецианских актеров и молодому послушнику, даже представился случай дважды встретить, сначала в Квиринале, а потом на вилле Медичи, папу Бенедикта XIV Ламбертини. Это было время взросления: «1 октября 1743 года я наконец принял решение побриться. Мой пушок превратился в бороду. Я решил, что пора отказаться от некоторых привилегий отрочества» (I, 181). Решающий момент проживания в Риме: именно в это время он учится французскому языку, добросовестно получая ежедневные уроки у адвоката по имени Далаккуа. Однако именно тогда, когда Казанова, подлаживаясь идти по жизни вслед за владетелями Рима, прочит себе славную будущность, он самым глупым образом оказался замешан в неприятное дело о похищении беременной дочери адвоката Далаккуа ее воздыхателем. На самом деле он совершенно не был к нему причастен, но римские злые языки произвели такое разрушительное действие, что кардинал Аквавива был вынужден отказаться от его услуг и попросить его уехать. Куда? В Константинополь, ответил ему Казанова, который сам не знал, откуда ему пришла эта нелепая идея. «Что я стану делать в Константинополе? Я понятия не имел, но должен был туда ехать» (I, 226). Венецианцев всегда тянуло на Восток.
V. Корфу и Константинополь
Ты предполагаешь, что я богат; вовсе нет. Когда я доберусь до дна своего кошелька, у меня больше ничего не останется. Возможно, ты предполагаешь, что я высокого рождения, а я принадлежу к сословию ниже или равному твоему. У меня нет никакого таланта к добыванию денег, никакой работы, никакой основы, чтобы иметь уверенность в том, что мне будет на что прокормиться через несколько месяцев. У меня нет ни родных, ни друзей, никаких прав, на какие я мог бы претендовать, и никаких твердых планов. Все, что у меня осталось, – это молодость, здоровье, мужество, немного ума, чувство чести и порядочности и начатки хорошей литературы. Мое великое сокровище – то, что я сам себе хозяин, что я не боюсь невзгод. Характер мой склонен к расточительности. Вот я каков.
По дороге в Венецию, откуда он намеревался отплыть в столицу Османской империи, Казанова в феврале 1744 года остановился в Анконе, ставшей одним из самых важных этапов его чувственного и сексуального посвящения, поскольку там ему открылась неоднозначность полов. В самом деле, именно в этом городе он повстречал некоего Беллино, восхитительно хорошенького кастрата с глазами темными, как карбункулы, который уже играл роль примадонны в театре Анконы. Мать его была набожной и алчной сводней, готовой выставить на панель всю семью ради денег. В Папской области, к которой принадлежал этот город, женщинам не дозволялось появляться на сцене с 1686 года, и женские роли всегда играли кастраты. Только в самом конце XVIII века женщины наконец снова появятся на подмостках. Казанова пришел в крайнее смущение и воспылал желанием, не в силах избавиться от мысли, что Беллино, несмотря на свою мужскую одежду (обычный карнавальный наряд, призванный ввести в заблуждение), женского пола, и это доказывает неоспоримая выпуклость его груди, которую невозможно скрыть совершенно. Отныне он не успокоится, пока не установит истинную природу того, в ком видит девушку и кого желает все больше и больше, несмотря на его постоянную уклончивость. Эти отказы и уловки лишь еще больше распаляют. По правде сказать, положение куда сложнее. Казанова беспрестанно твердит читателю, что «ему хотелось, чтобы Беллино был девушкой, но устраивает дело так, чтобы мы сомневались в его истинном желании. Эпизод со стремлением к разоблачению трансвестита продлится некоторое время, чтобы дать расцвесть романическому умению рассказчика: он задает вопрос вопросов, лежащий в основе любопытства, и как можно дольше оттягивает ответ. И снова читатель или читательница должны исходить из своей собственной неуверенности. К какому полу он действительно принадлежал? А я?»[21] А если Казанова в любом случае желал Беллино таким (такой), как он (она) есть, вне зависимости от его пола? А если неистовость его желания на сей раз заставляла его пренебречь различием полов?
Отвергнув однополые домогательства его брата Петрона, настоящего профессионального альфонса, переспав, чтобы утишить свой пыл, с двумя юными сестрами – двенадцатилетней Сесилией и одиннадцатилетней Мариной, каждая из которых получила по три дублона и тотчас отнесла их своей матери, чрезвычайно обрадовавшейся столь щедрому дару, Казанова в отчаянии и нетерпении снова подступил к Беллино. Тот «искусно играл на состоянии уверенности без доказательств, в котором бился Казанова. Менял костюмы, разнообразил внешний облик, чередовал мужские и женские интонации. Показывал свою роскошную грудь и позволял Казанове ее ласкать, постанывая и стыдясь своего уродства. Казанова прошел через все муки сомнения и желания. Он уже почти бредил…»[22],– пишет Шанталь Тома. Дошло до того, что он предложил сто цехинов за ночь вдвоем: если он юноша, они на том и остановятся, если он девушка, они пойдут дальше, будь на то ее воля. Беллино отказался. Но неисправимый Казанова не удержался и сунул руку туда, куда не следовало, обнаружив выступ, который мог принадлежать только мужчине. Однако это не привело Казанову в отчаяние: поначалу «удивленный, рассерженный, удрученный, возмущенный», он вскоре возобновил свои авансы, говоря себе, что, возможно, это лишь чудовищных размеров клитор. Упрямый Беллино сопротивлялся еще пуще, выставляя ловкий аргумент: будучи влюблен столь сильно, Казанова в любом случае пойдет до конца, будь он девушкой или юношей. Само его мужество не оттолкнет пылкого поклонника, и его страсть обернется против природы. Однако он согласился поехать с Казановой в Римини. По дороге, в то время как Казанова намеревался взять себе отдельную комнату на постоялом дворе в Синигалии, она – ибо это женщина, и зовут ее Терезой, – привела его к себе в комнату и отдалась ему: «Беллино, первым нарушив молчание, спросила меня, почувствовал ли я ее любовь» (I, 245).
Замечательная грамматика! Чудесный переход от одного рода к другому в одной фразе! Она рассказала ему свою печальную историю: вся ее музыкальная карьера зиждилась на этом притворстве; если ее разоблачат, она потеряет работу. Чтобы сойти за мужчину, когда церковные власти проверяют ее половую принадлежность, у нее есть особое устройство: «Это небольшая вытянутая, мягкая трубочка толщиной в большой палец, белая, нежная на ощупь. Она была вставлена в очень нежную, прозрачную кожу, овальной формы, пяти-шести дюймов в длину и двух в ширину. Прикрепив эту кожу гуммитрагантом в том месте, где бывает член, она закрывала ею женский орган» (I, 248). И Казанова до крайности распален этой «штучкой», которой никак не наиграется: «Она налила воды в стаканчик, раскрыла свой сундучок, достала оттуда свое приспособление, клей, основу и прикрепила свою маску. Я увидел невероятное. Очаровательная девушка, бывшая таковой повсюду, с этим необычайным приспособлением показалась мне еще более интересной». Со своим кастратским пенисом, не мешавшим ей наслаждаться как женщине, гермафродит Тереза, принадлежавшая к обоим полам, сочетавшая в себе мужественность и женственность, неудержимо влекла к себе Казанову. «К притираниям, кремам, пудрам, мушкам, перьям и парикам, которых требовала элегантность того времени, Тереза добавила дополнительный атрибут кокетства – маску юноши между ног»[23].
Редко за всю свою долгую жизнь обольстителя Казанова был так влюблен в девушку, он даже серьезно подумывал о браке. По счастью, непредвиденные обстоятельства помешали осуществиться его матримониальным планам, причем он даже оказался не виноват в непоправимом и тягостном разрыве. Он потерял паспорт; был посажен в тюрьму в Пезаро и сбежал, не желая того: лошадь, на которой он ехал, понесла. Помехи сыпятся одна за другой. Сначала Тереза ждала его в Римини, куда он тайно приехал к ней перед отъездом в Болонью. В конце концов Тереза отправилась в Неаполь: герцог де Кастропиньяно нанял ее певицей в театр Святого Карла. Она верно ждала его, но время шло, наступило забвение. На горизонте нашего распутника забрезжили новые романы…
Поскольку «черное» не принесло Казанове состояния и блестящих успехов, он подумал о «красном». Не имея призвания к поприщу церковнослужителя, он поспешил сбросить рясу и натянуть военный мундир, решив поступить в армию. И как всегда, главным, что привлекало его в ремесле военного, был костюм: «Я спросил себе хорошего портного; ко мне привели человека по имени Морте. Я объяснил ему, как должен быть сшит нужный мне мундир и какого цвета, он снял мерку, дал мне образцы ткани, из которых я выбрал, и уже на следующий день принес мне все необходимое для слуги Марса. Я купил себе длинную шпагу и с прекрасной тростью в руке, в лихо заломленной шляпе с черной кокардой, с буклями и длинной накладной косицей вышел из дому, чтобы поразить весь город» (I, 260). Казанова красуется, щеголяет, он счастлив. Он поступил на службу Республике прапорщиком одного из полков, расквартированных на Корфу. Он надеялся сразу получить чин лейтенанта, но военный старейшина пообещал ему этот чин к концу года. После переезда, оказавшегося довольно опасным оттого, что матросы, подстрекаемые попом-фанатиком, возложили на него вину за ужасную бурю, чуть не опрокинувшую корабль, и хотели бросить его в море, он по прибытии на Корфу вытребовал себе отпуск в полтора месяца и отправился в Константинополь на корабле, на котором плыл славный сенатор Пьер Вандрамен, занимающий почетную должность посла в Блистательной Порте.
Казанова в Константинополе. Будущий завсегдатай великих европейских дворов на Востоке. Венецианец в тени куполов и минаретов, которые непременно напоминали ему восточную архитектуру собора Святого Марка, посверкивающего своими «луковицами» на солнце. Какие чудесные описания нас ждут, стоит лишь вспомнить Нерваля или Флобера! Однако, читая Казанову, мы не можем не испытать разочарования. Поклонение Востоку, свойственное XIX веку, приучило нас к живописным картинам. «Вид этого города с расстояния в один лье удивителен. Нигде во всем мире не встретишь столь красивого зрелища», – пишет Казанова. И все. То же по поводу Корфу: «Теперь я должен описать читателю Корфу, чтобы он мог представить себе жизнь, какую там вели. Не стану говорить о местности, с какой все могут познакомиться». Только-только пообещав описание, он уходит в сторону. Вечно этот в высшей степени небрежный и поспешный характер воспоминаний Казановы. Постоянное сокращение описаний. Однажды он выбрался из Рима в Тиволи на целый день, выехав рано утром, поскольку множество красивых вещей, на которые стоило взглянуть, требовало времени. Результат: «Мы шесть часов смотрели и восхищались, но увидел я очень мало. Если читателю любопытно узнать что-то о Тиволи, не отправляясь туда самому, пусть почитает Кампаньяни». «Безразличие, распространяющееся на города и памятники, – пишет Ф. Марсо. – Этот неутомимый путешественник никогда не смотрит вокруг взглядом туриста. Его интересует одно: нравы, общество, женщины, столы для игры в фараон, а не то, что его окружает. В Риме он не говорит нам ни о соборе Святого Петра, ни о Колизее. Он живет на площади Испании. Надо полагать, что он даже не заметил широкой лестницы у себя под носом, которая, однако, на тот момент блистала своей новизной. В Париже он поречистее»[24], особенно когда описывает галереи Пале-Рояля: «Я увидел довольно красивый сад, аллеи, обсаженные большими деревьями, бассейны, высокие дома, которые его окружали, много мужчин и женщин, которые прогуливались, скамьи здесь и там, где продавали новые брошюры, душистую воду, зубочистки, безделушки; увидел соломенные стулья, которые сдавали за су, читателей газет, которые держались в тени девушек, и мужчин, которые завтракали в одиночестве или в компании; разносчики из кафе быстро спускались и поднимались по маленькой лесенке, спрятанной позади грабов» (I, 563). Живое и подвижное описание, потому что автора более занимает чрезвычайное разнообразие общественных занятий в этом месте, чем его архитектура. Когда, как тонкий гурман, он рассказывает о блюде из угря под винным соусом, съеденном на берегу Сены, то ни словом не обмолвливается о самой реке. Место для Казановы – это прежде всего некое общество, социальная ткань, сеть отношений или же увеселительная прогулка.
В Константинополе[25], если не считать визита к графу де Бонневалю, которого отныне звали Осман-паша Караманский (так утверждал Казанова, на самом деле его имя было Ахмет), – знаменитому отступнику, оставившему службу у императора, чтобы избегнуть крепости, сбежавшему в Турцию, отрекшемуся от христианской веры и принявшему ислам, – и длительного посещения Юсуфа, настоящего мудреца, который хотел женить его на своей дочери, главным событием была одна странная увеселительная прогулка. Приглашенный другим турком, Измаилом, Казанова отвергает его настойчивые ухаживания. Тот не сдается, для начала увозит его на рыбалку, потом приглашает в кабинет, откуда можно полюбоваться тремя прекрасными обнаженными девушками, купающимися при лунном свете, то плавая, то выходя из воды и поднимаясь по мраморным ступенькам, то стоящих, то сидящих или вытирающихся полотенцем, – в общем, во всех позах, нужных для полного удовлетворения свидетелей эротического спектакля.
Казанова нисколько не скрывает своего сексуального возбуждения. Нет ничего более непринужденного и вольного, чем тон, в котором Джакомо рассказывает нам об этом однополом романе. Следующий эпизод гомосексуализма, описанный в «Истории моей жизни», последует лишь через двадцать лет. В 1765 году Казанова в России. Он отправился к некоему Бомбаку, уроженцу Гамбурга, с которым познакомился в Англии (оттуда он сбежал из-за долгов, приехал в Петербург и поступил на военную службу). Согласно своим ожиданиям, он встретил там молодых русских офицеров, «двух братьев Луниных, тогда лейтенантов, а сегодня генералов. Младший из двух братьев был светловолос и красив, как девушка; когда-то он был возлюбленным секретаря правительства Теплова и, как умный человек, не только бравировал предрассудками, но и постоянно привлекал к себе ласками, нежностью и уважением всех мужчин, которые были ему нужны, которых он посещал» (III, 402).
Подумав из уважения, что Казанова разделяет его вкусы, он сел за стол рядом с ним и во время ужина так с ним заигрывал, что Джакомо искренне принял его за девушку, переодетую юношей. После ужина он поделился с соседом своими подозрениями, «но Лунин, ревниво относящийся к превосходству своего пола, тотчас продемонстрировал свое мужское достоинство. Желая узнать, могу ли я остаться равнодушным к его красоте, он завладел мною и, будучи убежден в том, что он мне нравится, приготовился составить мое счастие и свое собственное. Так бы и случилось, если бы Ривьера, раздосадованная тем, что в ее присутствии какой-то юноша покушается на ее права, не накинулась на него и не принудила отложить свой подвиг до более подходящего времени. Это побоище меня насмешило; но не будучи к нему равнодушен, я не вменил себе в обязанность притворяться, будто мне все равно. Я сказал девушке, что она не имеет никакого права вмешиваться в наши дела, и Лунин принял это за признание с моей стороны в его пользу. Он выставил на обозрение все свои сокровища, и даже свою белую грудь, подзадоривая девушку сделать так же; она отказалась, обозвав нас п…; мы ответили, назвав ее б…, и она ушла. Мы с молодым русским обменялись признаками самой нежной дружбы и поклялись в том, что она будет вечной» (III, 402–403).
Казанова возвращается домой, где его поджидает любовница. Эта Заира мечет громы и молнии, обзывает его убийцей и изменником. «Чтобы убедить меня в моем преступлении, она показала мне расклад из двадцати пяти карт, прочитав мне по фигурам о том, какое распутство удерживало меня вне дома всю ночь. Она показала мне шлюху, постель, сражения и даже мое отступление от природы. Я ничего не видел; она же вообразила, будто видит все» (III, 403).
«Отступление – это слово достаточно хорошо определяет отношение Казановы к данному вопросу, – комментирует Ф. Марсо. – Отступление, не более того, которое интересует его лишь опосредованно, не являясь частью его пути, но и принципиальных возражений, тем более отвращения тоже не вызывает: он его не осуждает и при случае готов сделать такой крюк»[26]. Кстати, Казанова первым подчеркивает, говоря о гомосексуализме, что эти вкусы «не редкость в причудливой Италии, где нетерпимость в этом отношении не является ни безрассудной, как в Англии, ни яростной, как в Испании» (I, 232). Однажды, когда маленький негодник нахально показал ему, что он мальчик, намереваясь предложить свои услуги, Казанова дал ему пощечину за бесстыдство, а потом экю, в виде компенсации за оплеуху. «Я лег спать, смеясь над этим приключением, ибо моя натура допускала подобные штуки только вследствие опьянения, подогретого большой дружбой» (II, 588). Это значит, что, не исключая совершенно гомосексуальные отношения и не осуждая их как преступные, он практически не придает им значения. Однако подобные «отступления» не носили уж столь исключительного характера, как можно подумать, следуя «Истории моей жизни». Действительно, в посмертных записках Казановы, среди замечаний, никак не относящихся к данной теме, были обнаружены такие заметки: «Моя любовь к альфонсу герцога д’Эльбефа»; «Педерастия с Базеном и его сестрами»; «Педерастия с Х в Дюнкерке». В этом отношении принц де Линь, известный антифизик, как называли тогда гомосексуалистов, несколько ошибся на его счет. После того как Казанова опубликовал два первых тома своих мемуаров, тот написал ему: «Треть очаровательного второго тома насмешила меня, дорогой друг, треть возбудила мою плоть, еще треть заставила задуматься. Благодаря первым двум любишь Вас безумно, благодаря последней – восхищаешься Вами. Вы заткнули за пояс Монтеня. По мне, так это самая высшая похвала. Вы убеждаете меня, как ученый физик. Вы покоряете меня, как глубокий метафизик; но огорчаете, как робкий антифизик, недостойный Вашей страны. Почему Вы отвергли Измаила, пренебрегли Петроном, и неужели же Вам стало хорошо от того, что Белисса оказалась девушкой?»[27] Надо ли полагать, что в своем рассказе Джакомо предпочитает замалчивать и обходить из чувства стыда, в благопристойном порыве нравственности, эпизоды мужеложства, считаемого грехом? По правде говоря – больше из безразличия. Казанова внутренне чувствует себя гораздо в большей степени гетеросексуалом, чтобы беспокоиться по поводу мимолетных гомосексуальных происшествий и придавать им какое-то значение. И незачем говорить о подавляемой гомосексуальности! «Песня известная, – пишет Ф. Соллерс: – если Казанова так интересовался женщинами, то, наверное, потому, что, не признаваясь себе в этом, был гомосексуалистом. Кстати, эти истории с женщинами сомнительны, хотелось бы узнать их версию событий. Во всяком случае, чего ищет мужчина в своих многочисленных приключениях с женщинами, если не единственный образ своей матери? Разве дон Жуан не был по сути своей гомосексуалистом и импотентом?»[28]
Вернемся на Корфу, где Казанова раскрывает обман своего ординарца, «проходимца, пьяницы и распутника, крестьянина, родившегося в Пикардии» (I, 306), ставшего парикмахером, потом солдатом венецианских войск, наверняка дезертировав из Франции. Будучи при смерти и уже причастившись святых даров, этот плут утверждал, предъявляя выписку из церковной книги, что он Франциск VI, Карл Филипп Луи Фуко, принц де Ларошфуко, герцог и пэр Франции. Явное шутовство, поскольку этот Франциск VI, знаменитый моралист, автор «Максим», умер и был похоронен еще в прошлом веке. Ну и пусть: мнимый принц выздоровел, заставил всех уверовать в свою сказку и стал любимцем островных салонов и патрицианок. Казанова, не попавшийся на удочку, в конце концов отлупил его как следует и бросил окровавленного на земле. Ему грозила тюрьма, и он сбежал на соседний остров. Там он устроил себе гарем из пастушек и личное ополчение из крестьян: и те и другие были готовы выполнять все его капризы и слепо ему повиноваться. Он с триумфом вернулся на Корфу, как только обман его ординарца был раскрыт и доказан документально. Несколько месяцев он пытался соблазнить некую мадам Ф., вероятно, Андриану Лонго, в замужестве Фоскарини, которая, будучи женой капитана галеры, была любовницей управляющего галерами. Красавица так и не уступила, и Казанова не добился своей цели. В ноябре 1745 года он покинул Корфу решительно без всякого сожаления.
VI. Желать
Чувствуя себя рожденным для пола, отличного от моего собственного, я всегда его любил и, как мог, вызывал его любовь к себе.
Удивительный портрет поклонника женщин в образе увлеченного читателя, даже опытного библиофила: «Основа любви – это любопытство, которое, вкупе со склонностью, которой приходится наделять нас природе для собственного сохранения, вершит все дело. Женщина – точно книга: дурна ли она иль хороша, она должна начинать нравиться с титульного листа; если он неинтересен, то не вызывает желания читать саму книгу, желание же это равно по силе вызванному им интересу. Титульный лист женщины так же строится сверху вниз, как у книги, и интерес к ее ногам, который проявляют столько мужчин, созданных наподобие меня, сродни интересу образованного человека к сведениям о месте издания книги. Большинство мужчин не обращают внимания на красивые ножки женщины, а большинству читателей нет дела до издательства. Следовательно, женщины правы, столь заботясь о своем лице и об одежде, ибо именно так они могут вызвать любопытство их прочитать у тех, кого природа при появлении на свет не провозгласила достойными родиться слепыми. И так же, как те, кто прочел много книг, горят любопытством прочесть новые, пусть даже дурные, бывает, что мужчина, любивший много красивейших женщин, проявляет наконец любопытство к дурнушкам, когда они становятся ему внове. Он видит накрашенную женщину. Краска бросается в глаза; но это его не отталкивает. Его страсть, обратившаяся в порок, подсказывает ему аргумент в пользу ложного титульного листа. Возможно, говорит он себе, что эта книга не так уж плоха; и возможно, что она и не нуждается в этой смешной уловке. Он пытается проглядеть ее, хочет пролистать, но не тут-то было; живая книга противится; она хочет, чтобы ее читали по правилам; и эгноман[29] становится жертвой кокетства – чудовища, преследующего всех, кто занимается ремеслом любви» (I, 132). Мораль: из любопытства можно начать желать даже неприглядных или откровенно некрасивых женщин. Так же, как настоящий книголюб в конце концов начинает любить все книги, распутник любит всех женщин. В самом деле, желание Казановы, не разбирающее достоинств и ценности своих побед, не проводит различия между теми, кем он хочет обладать. Было бы ошибкой полагать, что, капризничая и проводя строгий отбор между теми, кто поддается его чарам или попросту оказывается поблизости, он тяготеет только к девственницам, молодым женщинам, хорошеньким, порядочным, хорошо воспитанным, умным, одухотворенным, образованным, нежным и мягким мадоннам, достойным кисти Рафаэля или Корреджо. Напротив, он не пренебрегает самыми вульгарными шлюхами, жуткими отбросами худших борделей, маркизами в период климакса, уродинами и увечными. Его сладострастие всеядно. Это эротоман. Он любит очень молоденьких девушек, даже едва созревших девочек, и уже перезревших женщин, красавиц и тех, кого так не назовешь. Он может даже влюбиться в некрасивых или явно уродливых женщин с физиологическими изъянами. В Авиньоне он воспылал, в безумном романе на троих, к Астроди, известной мерзавке и такой же плохой актрисе, как и некрасивой женщине, и к Лепи, форменной горбунье. В Риме он вступил в связь с некоей Маргаритой Полетти, дочерью квартирной хозяйки, смешливой и хорошенькой, несмотря на кривизну: она носила стеклянный глаз, который не подходил к здоровому ни по цвету, ни по размеру. Довольно неприятная асимметрия, так что Казанова, хоть и испытывавший тогда материальные затруднения, почел своим долгом поправить дело, преподнеся ей фарфоровый глаз под стать другому. Что касается Крысенка, то, если верить слухам, она представляла собой настоящую анатомическую редкость, поскольку слыла непроницаемой. За луидор можно было провести с нею ночь – попытать счастья. Тому, кто доведет дело до конца, было обещано вознаграждение в двадцать пять луидоров. Разумеется, Казанова пришел в возбуждение и не мог устоять перед соблазном лично провести такой опыт, но на сей раз красотка, обычно запиравшаяся лишь из лукавства, отдалась ему по-честному. Более пугающим, но и симптоматичным, был случай с госпожой де Ла Сон в Берне: лицо этой тридцатилетней женщины было ужасным и отталкивающим. Однако ее любовник однажды открыл Казанове, какие сокровища и чары таила в себе изуродованная красавица. Тот тотчас воспылал желанием и взволновался до такой степени, что скорей побежал искать в объятиях своей служанки успокаивающего средства, которое было ему срочно необходимо. Ибо «несказанная красота в сочетании с кричащим уродством (увечьем, проказой, открытой раной) порождала чудовищный сплав, перед которым Казанова редко мог устоять…»[30]
Значит, не так уж глупо утверждать, что Казанова, больше гонясь за количеством, чем за качеством, любит все без разбора, с той же слепой ненасытностью. Ничто не умерит его прожорства: несмотря на беременность, менструацию или запущенную болезнь, женщина для него остается женщиной, манящей «приторным запахом»[31]. Возмутительно, сказали бы пуристы и моралисты! Так неужели же они считают, что женщина во время беременности, менструации или даже болезни – уже не женщина? Это значит не понимать того, что Казанова мог желать любую женщину уже потому только, что она женщина, то есть воплощение пола, отличного от его собственного. Казанова желает только женственности. Но во всей ее полноте, во всех, в том числе и неприглядных, проявлениях.
Если на то пошло, он желает не одних только восхитительных женщин, общество которых сделало бы ему честь, отнюдь нет, но он всегда находит восхитительными (или, по меньшей мере, привлекательными) всех женщин, которых желает. Без различия общественных классов, от маркиз и графинь до горничных, причем среди черни их было гораздо больше, чем в высшем обществе. Однако у него явно выраженная слабость к доступным женщинам, не обремененным добродетелью, и к продажным красавицам, не стыдящимся того, что их покупают.
Красавицы и уродины, молоденькие и старухи. В этом и состоит парадокс стремления к новизне, по которому лишенная красоты женщина неоспоримо более нова после роскошной красавицы, так же как и зрелая, если не увядшая женщина – после девочки. «Именно любопытство делает непостоянным человека, погрязшего в пороке. Если бы все женщины были на одно лицо и на один нрав, мужчина не только никогда не стал бы непостоянен, но даже ни разу и не влюбился бы. Он брал бы себе женщину из инстинкта и довольствовался бы ею до самой смерти. Экономика нашего света была бы иной. Новизна – тиран нашей души; мы знаем, что то, чего не видно, – у всех примерно одинаковое; однако то, что позволяют увидеть, заставляет нас поверить в обратное, а им того и надо. Скупые по природе, позволяя нам увидеть то, что у них есть общего с другими, они заставляют наше воображение представлять, будто они совсем иные» (I, 841). И все же существует ли вправду новизна в этой области? Как мог Казанова не знать, что в конечном счете получишь примерно то же самое?
Любовь роковым образом однообразна, особенно с женщинами, которые уже приобрели определенный опыт в этой области. Возможно, именно по этой причине Казанову часто тянуло на молоденьких девушек, еще относительно неопытных (в наши дни у него были бы серьезные проблемы из-за совращения малолетних).
Пока продолжается связь – несколько ночей, несколько недель, порой несколько месяцев, – Казанова верен, упорно соблюдает моногамию (правда, иногда он покоряет сразу двоих – двух сестер, двух подруг и т. д., – но тогда две женщины составляют единое целое). Его непостоянство выражается последовательно, а не одновременно. Он не такой, чтобы завязывать несколько романов зараз. Но как только его любопытство притупляется, а желание удовлетворено, связь становится для него источником привычки и скуки. Влечение ослабевает. Только новизна может подогреть желание.
«Вкус к перемене в природе животных», – писал еще Аристотель в своей «Этике (к Никомаху)», о чем напоминает Казанова. Таким образом, разрыв, чаще всего по его инициативе, становится неизбежен, более того, необходим. Нужно обязательно менять партнерш, уступив предыдущую другим распутникам, подыскав ей богатого покровителя или выдав ее замуж. Казанова мог бы держать брачную контору: он с успехом заключает матримониальные союзы и восстанавливает супружеские пары, его хлебом не корми – дай составить законное счастье тех, кого он какое-то время любил. Дать им приданое и пристроить после того, как ими обладал, или помирить с мужем! Покидая их, он первым долгом стремится избавить их от горя и сожалений. И они явно не жалуются на судьбу. Не пытаются всеми силами его удержать, не устраивают сцен, не впадают в истерику. Напротив, они в восторге от пережитого, счастливы и благодарны. Во время всей связи он думал только о них, за них, через них. Он удивлял их своей бесконечной предупредительностью. Осыпал подарками с щедростью, которой они до того не знали. Великолепно их одевал, прежде чем блестяще раздеть. Не подвергал их боли и унижениям. Уважал их тщеславие. Всегда был к ним внимателен. А главное – доставлял им наслаждение в постели, гораздо больше, чем их обычные и зачастую унылые партнеры. Они и на минуту не предполагали, что он на них женится. Они не разочарованы, потому что сразу поняли: он предпочитает им свою свободу, хотя и обожает их до безумия. Они никогда его не забудут. И все, кто торопливо обличают злое лицемерие, сексуальный эгоизм, неизлечимый мужской диктат Казановы, не должны забывать о главном: он никогда не наносил непоправимого ущерба психике, не подталкивал к катастрофе женщин, которых любил несколько дней или несколько месяцев и покидал по-дружески. Он не доводил их до беды. Нет, они не кончали с собой, не поступали тотчас в монастырь, чтобы похоронить себя навсегда в тишине и одиночестве, не предавались слезам и отчаянию. Они ни о чем не жалели. Хранили его в своем сердце как светлое и незабываемое воспоминание. Марколина воскликнула: «Вы путешествуете, лишь чтобы осчастливить несчастных девушек», – к этим словам нужно отнестись серьезно. Она говорила от имени всех своих сестер.
Если его покидает женщина, он страдает искренне, неистово, но никогда слишком долго. На краткий миг остается неутешен. Прошла мимо красавица, да просто женщина – огонек во взгляде западает ему в душу, возбуждает. Его воображение распаляется. Он готов ринуться в бой…
VII. Венеция II
Я начал жить поистине независимо ото всего, что могло поставить ограничения моим наклонностям.
С апреля 1744 по май 1753 года Казанова вел бурную жизнь авантюриста, полную путешествий и любовных интриг, роскошных приемов и вечеров в театре или в опере, бесчисленных партий в карты (благодаря которым он, задолжавший или расточительный, стесненный в деньгах или щедрый, то разоряется, то составляет состояние и наоборот), приятных связей или темных знакомств, любезного ухаживания и грязных сношений, – в общем, всего того, что можно было бы назвать рутиной наслаждения. Во весь этот долгий период, занявший около десяти лет его жизни, Париж и королевский двор будут бесспорным апофеозом всех его перемещений и приспосабливания к новой среде.
После опыта с Корфу, не вселившего в него воодушевления, он очень быстро убедился, что не имеет склонности к военной карьере, которая, как и положение священника, требует много терпения, а приносит только смешные доходы, не имеющие ничего общего с его большими потребностями. Узнав, что командующий не сдержал слова и произвел в чин лейтенанта, обещанный ему, побочного сына какого-то патриция и что он сам, таким образом, вернется в Венецию простым прапорщиком, Казанова тут же сбросил мундир. Некоторое время он побыл «практикантом» у адвоката Манцони, в конце 1745 года, подумывая самому сделаться адвокатом, благодаря своей докторской степени, полученной в Падуе, затем решил стать профессиональным игроком, но в несколько дней остался без гроша. По ходатайству г-на Гримани он получил место скрипача в оркестре театра Сан-Самуэле – того самого, где когда-то играли его родители. Какое социальное падение, ведь он считает, что обладает необходимым воспитанием и качествами ума, способными ввести его в почтенное общество! Какое падение – в оркестровую яму! Пускай Казанова храбрится, заявляя, что зарабатывает достаточно (экю в день!), чтобы содержать себя сам, ни к кому не обращаясь за помощью («Счастлив тот, кто может похвалиться, что он самодостаточен», – сентенциозно пишет он), он чувствует себя пристыженным и униженным. Что сталось с аббатом, уверенным в том, что быстро сделает карьеру и деньги, или с военным, так гордившимся своим красивым мундиром? Не имея права на малейшее уважение со стороны сограждан, чувствуя себя даже предметом всеобщего осмеяния, он плывет по течению, становится «откровенным бездельником». Напиваться в кабаке, проводить ночи в злачных местах, разгоняя клиентов и не платя несчастным девушкам, отвязывать гондолы, уплывающие по воле волн, будить среди ночи повитух, отводя их в дома, где никто не рожает, нарушать покой врачей под ложными предлогами, разбить мраморную купель, бить без причины в набат, обрезать веревки колоколов – вот лишь некоторые из дерзостей и глупостей, совершенных шайкой шалопаев, вернее, вандалов, к которой принадлежали Джакомо и его брат Франческо. Хуже того: эти хулиганы похитили красотку в одном кабаке для бедных, где подавали разбавленное вино, и всемером или ввосьмером позабавились ею по очереди. Сколько бы ни утверждал Казанова, что хорошенькая женщина, избавившись от мужа, была в восторге от такого подарка судьбы и подобного количества любовников, мы все же вправе отнестись скептически к его словам, поскольку Совет Десяти велел провести расследование, после того как оскорбленный муж подал жалобу. В то время Казанова, ветреный и безответственный, даже не подозревал, что все эти дурачества обернутся тяжелыми последствиями, когда правительство Республики посадит его в тюрьму.
Как всегда, нужен случай, предоставленный судьбой, чтобы вытянуть Джакомо Казанову из этого болота. В данном случае он звался Маттео Джованни Брагадин. Это был сенатор лет под шестьдесят, «известный в Венеции как своим красноречием и талантами государственного мужа, так и своими галантными похождениями в бурной молодости. Он совершал безумства ради женщин, которые поступали так же ради него; много играл и проигрывал» (I, 378). Однажды, в середине весны 1746 года, возвращаясь домой после трехдневных празднеств по случаю женитьбы Джироламо Корнаро на девушке из семейства Соранцо, во время которой Казанова беспрестанно играл на скрипке на разных танцах, он повстречал за час до рассвета сенатора в красной мантии, который выронил из кармана письмо, поднимаясь в гондолу. Джакомо подобрал письмо и отдал владельцу. В благодарность сенатор предложил поехать к нему домой в его гондоле. Не прошло и трех минут, как его сразил апоплексический удар. Джакомо оказал действенную помощь совершенно незнакомому человеку, дважды пустив ему кровь и всю ночь пробыв у его постели. Он заменил собой возле больного официального врача, Лудовико Ферро, который, как и подобает выдающемуся венецианскому эскулапу, чуть не уморил своего пациента, налепив ему ртутный пластырь на грудь. Счастливый от того, что выпутался, и пораженный такой ученостью, синьор Брага-дин, который, несмотря на свой большой ум, имел маленькую слабость, будучи склонен к абстрактным наукам, быстро убедился в том, что Казанова обладает неким сверхъестественным даром. «В этот момент, чтобы не уязвить его тщеславия, сказав ему, что он ошибается, я совершил странный поступок, заявив ему в присутствии двух его друзей, будто владею числовой формулой, благодаря которой, написав вопрос и преобразовав его в числа, я получу также числовой ответ, по которому узнаю обо всем, что желаю знать и о чем никто в мире не смог бы мне сообщить. Г. де Брагадин сказал, что это ключ Соломона, который в простонародье называют каббалой» (I, 378). Казанова не колеблется ни минуты, реагирует быстро и откликается на приглашение, превращая догадку сенатора в уверенность. Он использовал случай к своей пользе и утвердился в новой роли специалиста по оккультным наукам.
С поразительной находчивостью он поймал птицу удачи, почуяв верное дело. Только бы оно не уплыло из рук. И понеслось! Брагадин и двое его неразлучных друзей, Марко Дандоло и Марко Барбаро, – «три оригинала, внушающие уважение своей порядочностью, рождением, весом и возрастом», трио старых холостяков, остепенившихся после излишеств юности, добрых христиан, но ставших непримиримыми врагами женщин, попользовавшись ими всласть и отказавшись от них, не сомневаются: «Имея меня в своем распоряжении, они верили, что обладают философским камнем, универсальной медициной, общением с духами стихий и небесным разумом, секретами всех кабинетов Европы. Они также верили в магию, наделяя ее благовидным названием оккультной физики» (I, 380). Казанова им объяснил, что если он, не достигнув пятидесяти лет, откроет им правило этих расчетов, которому обучился у одного отшельника, живущего на горе в Карпенье, пока служил в испанской армии, то умрет скоропостижно в три дня после того, как выдаст свою тайну. Джакомо стал для них незаменимым, необходимым посредником в общении с духами. Как не посмеяться над этими простофилями? «Таким образом я стал Иерофантом трех этих людей, очень честных и любезных в меру возможного, но только не мудрых, поскольку все трое предавались тому, что называют химерами науки» (I, 380).
«Каббалистика, которой пользовался Казанова, чтобы дурить голову своим простофилям, относится к области гадания на числах, в отличие от гадания по именам или жребию»[32]. На самом деле это жуткое шарлатанство, которое предполагает завидную наглость и апломб, с одной стороны, и невероятную доверчивость – с другой. Жадный к познаниям во всех областях, Казанова обладал относительно разнообразными техническими познаниями в области оккультизма, чтобы изрекать свои пророчества, не будучи немедленно обвинен в обмане. Он довольно-таки много читал: «Пикатрикс», «Ключ Соломона», Агриппу, Артефия, Сенвигодия, но вкривь и вкось. Он также много занимался полиграфией Тритема, аббата Спангейма, который в своей книге «Стенография» свел воедино все методы секретных кодов. Возможно, знал он и книгу «О рассудочной каббалистике. Высшее искусство», где описана «нумерическая каббалистика Сивилл, отвечающая на все вопросы, заданные на каком бы то ни было языке или наречии в стихе гекзаметра, и отвечающая весьма кстати». К счастью для него, он имел дело с новичками, неспособными вывести на чистую воду наглого обманщика!
Тем не менее эта псевдонаука все же требовала от Казановы серьезных навыков, чтобы быстро преобразовывать буквы в числа. Вопрос, заданный «гению», который должен был его вдохновить, переводился в цифры, соответствующие числу букв в каждом слове. Затем выводился ответ, следуя такому алфавитному соотношению: А = 1, Б = 2, В = 3 и т. д. Буквы Е и Ё, И и Й обозначались одним числом. Он знал это соотношение наизусть и почти сразу же переводил предлагаемые ему вопросы. Допустим, такой вопрос: «По какой причине господин граф запретил, чтобы ему говорили о его скором отъезде в Венецию?» В каждом слове этой фразы есть определенное число букв. Расположим эти числа в виде пирамиды:
Представим себе, что Казанова пожелал бы ответить: «По очень секретной дипломатической причине»; и немедленно составил бы в голове код ответа. По принципу, указанному выше, это дало бы следующее: П = 15, О = 14 и т. д. Значит, нужно как можно быстрее совершить нудные преобразования, которые не так-то просто выполнить с большой скоростью. Действительно, необходимо обладать замечательной быстротой ума, неоспоримой способностью к мысленным расчетам, чтобы на ходу жонглировать буквами и цифрами, хорошей памятью, чтобы держать в ней пирамиду и все допустимые ею сочетания чисел. Это качества, необходимые для шахматиста или картежника, и в этом отношении нашему венецианцу сам черт не брат. Он здорово натренировался. Остается найти шифр ответа в пирамиде. Здесь царит полный произвол, ибо Казанова сам направлял своего собеседника. «Возьмите, – говорил он ему, – первую цифру во второй строке и перемножьте со второй цифрой в четвертой строке». Получалось 15 = П. «Теперь отнимите от нее третью цифру в пятой строке». Итог: 14 = О. И так далее… Детский прием: поглощенный каббалистическими вычислениями, сложением, умножением, вычитанием, оператор не сознает, что его подводят к заранее замышленному ответу. Поскольку всегда существовал риск того, что числовой обман будет раскрыт неким проницательным скептиком, Казанова старательно усложнял и запутывал свои расчеты. Он использовал магический ключ, состоявший из инициалов О.С.А.Д. Изучал двойные колонки, добавлял нули. Порой даже «гений» подсказывал ему первую директиву, чтобы получить согласные, а гласные выявлялись во время второй операции. На самом деле, точные действия Казанове не важны. Если верить Бернхарту Марру, чтобы получить ответ, он продвигался зигзагом от цифр, расположенных на вершине пирамиды, к тем, что были в ее основании. Важно то, что этот монументальный обман чудесно срабатывал и восторженные простофили попадались в ловушку.
Восхищенный чудесами своего молодого протеже, в котором он, вероятно, не мог не увидеть юного ветреника, каким был сам в свое время, и которого, возможно, надеялся вразумить своими стараниями, синьор Брагадин решил обходиться с ним, как с приемным сыном, предоставил ему квартиру, одежду, стол и слуг, оплаченную гондолу, а также пенсион в десять цехинов в месяц. Теперь, когда он мог жить как богатый барин, Казанова окунулся в еще более распущенную и развратную жизнь, перемежая любовные приключения в «казино», небольших домах удовольствий, очень модных в Венеции XVIII века, с игрой в карты, где он часто проигрывал огромные деньги в несколько часов. Но какая разница, если синьор Брагадин всегда уплатит долги! «Довольно богатый, наделенный природой импозантной внешностью, решительный игрок, дырявая бочка, говорун, лишенный скромности, бесстрашный повеса, волочащийся за хорошенькими женщинами, устраняя соперников, считавший подходящей для себя лишь ту компанию, которая меня забавляла, я мог вызывать только ненависть. Готовый принять удар на себя, я считал, что мне все дозволено, ибо мне казалось, что стеснявшая меня несправедливость создана для того, чтобы ее попрать» (I, 384).
Его связи и проигрыши на самом деле были лишь мелкими шалостями по сравнению с другими, гораздо более позорными делами. Однажды, будучи за городом, он свалился в ров, полный жидкой вонючей грязи. Его красивый наряд был непоправимо испорчен, и вид он имел самый смешной. Падение оказалось не случайным: доска, перекинутая через ров, была подпилена неким греком по имени Деметрио – тот хотел отомстить Казанове, отбившему у него горничную, в которую он был влюблен. Казанова пришел в ярость; он отрезал руку у свежезахороненного трупа и засунул ее в постель к греку, пока тот спал. Тот потянул ее на себя, но Казанова ее удерживал, а потом вдруг отпустил. До смерти напуганный этой мертвой рукой, Деметрио замкнулся в молчании и погрузился в состояние оцепенения, из которого так больше и не вышел. Никаких сожалений и угрызений совести со стороны Джакомо. На стол прокурору легло обвинение в кощунстве, присовокупленное к другой жалобе. Казанова дал шесть цехинов матери одной юной девственницы (данное обстоятельство было проверено самим заинтересованным лицом), чтобы свободно ею располагать. Когда сделка была заключена и деньги уплачены, девушка вдруг взбунтовалась и не поддалась ему. Решив, что его надули, Казанова сильно избил ее черенком метлы. История по меньшей мере грязная, которая стала очередным обвинением, выдвинутым против Казановы. Это было слишком для одного человека, и осторожный синьор Брагадин посоветовал ему как можно скорее уехать из Венеции. Вообще-то дело приняло куда более серьезный оборот: к тому времени о каббалистических опытах Казановы стало известно государственным инквизиторам.
VIII. Заражаться
Всю свою жизнь я только и делал, что трудился, чтобы заболеть, когда был в полном здравии, и трудился, чтобы вернуть себе здоровье, когда его терял. Мне очень хорошо удавалось и то, и другое, и сегодня я в этом отношении обладаю превосходным здоровьем, которому хотел бы навредить, но возраст мне это не позволяет. Болезнь, которую мы называем французской, не укорачивает жизнь, когда умеешь от нее излечиваться; она только оставляет шрамы; но от этого легко утешаешься, когда думаешь, что приобрел их с наслаждением, как военные любят видеть в отметинах от ран признаки доблести и источник славы.
У всего есть свое начало – и у любви, и у сифилиса. Когда-то приходится подцепить его в первый раз. Это столь же важное посвящение, как и сам секс, особенно для распутника, подобного Казанове, более всех других смертных подверженного неприятностям такого рода. 2 апреля 1743 года, в день своего рождения (Казанова родился 2 апреля 1725 г.) или, вернее, «в роковой день моего появления на свет», как он писал, он, встав с постели, увидел прекрасную гречанку, которая попросила его написать прошение (Джакомо изготавливал их одно за другим для множества неграмотных албанских офицеров): как добрая супруга, она хотела получить для своего мужа, простого прапорщика, мечтавшего о чине лейтенанта, рекомендательное письмо, которое она сама бы отнесла военному министру. В то время Казанова находился под стражей в форте Святого Андрея в Венецианском заливе, и в этом месте для него не нашлось другого занятия, кроме должности общественного письмоводителя, потоком составляющего прошения о продвижении по службе, чтобы заработать несколько цехинов на карманные расходы. Прекрасная гречанка, бедная, как церковная мышь, могла расплатиться с ним только своим «сердцем» (!). Ничего страшного! Он согласился на предоплату своего труда, сочтя, «что хорошенькая женщина противится лишь для очистки совести». Получив, как и было условлено, готовое прошение к полудню, она решила, что он заслужил небольшой прибавки, и расплатилась с ним во второй раз. В тот же вечер, «под предлогом кое-каких поправок», и на сей раз в уплату за все, она в третий раз предложила ему свое сердце в постели. Возможно, Казанове следовало встревожиться: тройная оплата натурой в один день – довольно много за одно-единственное письмо, с чего бы вдруг такая щедрость? Результат не заставил себя ждать. Уже через день он обнаружил у себя нехорошую болезнь, как полагают специалисты по венерическим заболеваниям – гонорею. И вот ему пришлось довериться представителю «оккультной медицины», вдохновленной Парацельсом. На излечение ушло полтора месяца – обычный тариф в таких случаях. «Когда я довольно глупо укорил эту женщину за ее дурной поступок, она ответила мне со смехом, что дала мне лишь то, что имела, и что я сам должен был быть настороже. Но читатель не сможет вообразить себе ни то горе, ни стыд, который причинило мне сие несчастье. Я смотрел на себя как на опустившегося человека. По этому событию любопытные могут себе представить всю полноту моего легкомыслия» (I, 119). Действительно, необычный способ отпраздновать свое восемнадцатилетие; в первый раз Казанова казался ошеломленным и уничтоженным. Зараза произвела на него такое действие, поскольку была ему внове. Впоследствии, попривыкнув, он уже не так убивался, научившись поддерживать если не дружеские, то, по крайней мере, лишенные драматизма отношения с венерическими заболеваниями. Во всяком случае, столкнувшись с опасностью как заражения, так и зачатия, он так никогда и не станет принимать элементарных предосторожностей, даже при явной угрозе: хотя ему прекрасно известно назначение замечательных презервативов – «тонких английских сюртуков» в форме раздутого члена, – он терпеть не мог использовать во время любви эти «жалкие ножны», не решаясь облекать свой орган в «мертвую кожу» (II, 418).
Если легкомыслие можно измерить по той легкости, с какой человек позволяет себя заразить первой встречной, Казанова – настоящий ветреник. Ведь это лишь начало очень длинного списка заболеваний, которым упивались специалисты, подсчитывая их, пересчитывая, отличая одни от других. Среди таких врачей был и неподражаемый доктор Эдуар Эсташ с медицинского факультета Парижского университета. «В период с 18 лет до 41 года Казанова одиннадцать раз подвергался венерическим заболеваниям, хотя, возможно, и больше, так как по случаю первого заражения своего слуги он сказал, что сам “уже давно их не считает”. В шести случаях лечение продолжалось четыре-пять недель; в одном – месяц, в четырех остальных время не указано. Если следовать Ноттрафту, четыре раза он болел гонореей, в одном случае осложненной воспалением яичка; пять – мягким шанкром; один, вероятно, сифилисом и еще раз – простым герпесом крайней плоти».
Через полгода после горького опыта в форте Святого Андрея и четыре месяца спустя после выздоровления, то есть через двадцать страниц дальше по тексту «Мемуаров», все повторилось. Отправляясь в Анкону, он провел несколько дней в одном доме в Кьоцце, и отец Корсини, монах-якобинец, кривой, уроженец Модены, якшавшийся со всякой дрянью, затащил его в злачное место, где он отдался жалкой и уродливой плутовке. Выйдя оттуда, он засел за партию в фараон и, разумеется, спустил все деньги. На следующий день, в надежде отыграться, он заложил все свои вещи и, конечно, снова проиграл. «В отчаянии отправляясь спать, я, в довершение несчастья, заметил отвратительные следы той самой болезни, от которой излечился не более двух месяцев назад. Я заснул, совершенно оглушенный» (I, 139). Ему так стыдно, что он даже не посмел открыться честному молодому врачу, «профессору кислых щей», который приютил его в Кьоцце и обращался с ним как нельзя лучше. Хотя Казанова и несколько подсократил промежуток между предыдущим заболеванием и нынешним, все-таки история повторилась слишком быстро.
В отчаянии он поддался на уговоры одного судовладельца и взошел на небольшой одномачтовый корабль, который на следующее утро бросил якорь в порту Истрии, Орсаре, где его сердечно пригласила пообедать одна богобоязненная местная жительница и взял на постой священник. «Я отправился спать, принимая предосторожности, чтобы моя язва не касалась простыней» (I, 140).
В ожидании хорошей погоды для плавания он два дня слушал отвратительные вирши священника, нагонявшие на него смертную скуку, и пользовался настойчивыми знаками внимания со стороны экономки, которая была молода и хорошо сложена и которой, к несчастью, он не мог отплатить взаимностью. «Я был смертельно огорчен, что мое состояние не позволяло мне убедить ее в том, что я воздаю ей должное. Мне было тягостно думать, что я покажусь ей холодным и неучтивым» (I, 140). Тем не менее желание росло непреодолимо: ему показалось, что, приняв определенные предосторожности, он сможет с честью выйти из ситуации, не заставив упрекать себя в непростительной несправедливости. «Мне казалось, что воздерживаясь и сообщив ей причину этого, я покрою себя позором, а она сгорит от стыда. Будь я мудрее, я не пошел бы вперед; мне же казалось, что я не могу более отступать» (I, 141). Что сделано, то сделано. Судно снялось с якоря; за две недели режима его болезнь стала не опасна. И вот он с новыми силами отправляется к новым приключениям с другими женщинами…
Казанова не вспоминал об этом кратком, но мрачном пребывании в истрийском порту до следующего года, девять месяцев спустя, когда, отправляясь на Корфу, он снова высадился в Орсаре. Он шатался по причалу, и вдруг совершенно незнакомый человек бросился к нему и стал выражать свою безграничную благодарность, называя своим благодетелем и уверяя, что он ему крайне обязан. Казанова думал, что имеет дело с сумасшедшим, пока этот человек не сообщил ему, что он хирург и что сифилис, которым Джакомо болел во время своего первого приезда, принес ему нежданную практику. Экономка поделилась подарком Казановы со своим другом, который разделил его с женой, та не преминула наградить им одного распутника, который стал раздавать его направо и налево, так что менее чем за месяц более пятидесяти местных жителей заболели. К сожалению, эпидемия в конце концов угасла, и все вернулось на круги своя. Какое счастье испытал врач, встретив Казанову и понадеявшись, что тот быстро возобновит заразу! Разочарованный тем, что Джакомо здоров как огурчик, он все же выразил надежду, что тот еще заглянет к ним, возвращаясь с Востока, богатого дурным венерическим товаром, который приносит такую чудесную прибыль. Если Казанове не удастся вывезти из Константинополя несколько опасных возбудителей болезни, которые умножат его практику и состояние, он просто придет в отчаяние! В этом городе распространяется уже не опасная эпидемия, а комедия Мольера или даже водевиль, разыгрываемый на сцене Орсары, где венерическое заболевание, конечно, никого не убило. Шутовская комедия, отнюдь не трагедия с мертвецами. Сифилис обратился фарсом. Казанова не успокоился, пока не лишил драматизма болезнь, которая в конечном счете стала составной частью любви, ее комическим эпилогом.
«Венерические заболевания в мире Казановы в основном излечимы, они не вовлекают ни в какой мазохистский бред о падении и исключении из общества, – пишет Шанталь Тома. – Несмотря на кустарные медицинские средства (или благодаря им, ибо лечение, если оно не протекало в тюремном режиме больницы, было очень индивидуализировано, и многие хирурги держали свои рецепты в секрете), сифилис в XVIII веке не вызвал массовой гибели людей. Только после Революции и наполеоновских войн эта болезнь достигла размаха былых эпидемий чумы. Но тогда ее фоном уже не были любовные утехи или ветреность»[33]. В отличие от того, что произойдет в XIX веке, когда Chantal Thomas, сифилис, болезнь общественная и романтическая, воспринималась как абсолютное зло, проклятие, связанное с существованием вольного художника, «дурная болезнь» XVIII века – всего лишь «безделица», от которой можно излечиться, если есть желание. Некоторые, например, капитан О’Нилан, у которого болезнь проникла уже в костный мозг, даже не считали необходимым лечиться: «От режима я бы до смерти скучал. Да вот еще: с какой стати лечиться, если, едва выздоровев, снова подхватишь триппер? Десять раз у меня хватало на это терпения; но два года назад я смирился» (I, 448). Когда молодой Ричард попросил у Казановы несколько луидоров на лечение, его мать не видела в этом никакой нужды и считала, что это деньги, выброшенные на ветер: «Я выполнил его просьбу, но когда его мать узнала, в чем дело, она сказала мне, что лучше было оставить ему эту (болезнь), уже третью по счету, поскольку она уверена, что, вылечившись, он подхватит другую. Я вылечил его на свои средства; но его мать оказалась права. В четырнадцать лет распутству его не было границ» (II, 161).
На Корфу бедный Казанова беспрестанно пытается добиться благорасположения неприступной М.Ф. После бесконечного увиливания с ее стороны он уже как будто приблизился к своей цели, когда его пригласили провести ночь в супружеской спальне. Она лежит на постели, он сжимает ее в объятиях. «Я думал, что час настал, я разделяю ее буйство, никакая человеческая сила не смогла бы стиснуть ее крепче; но в решительный момент она вывернулась, ускользнула от меня и, нежно смеясь, своей рукой, показавшейся мне холодной как лед, утишила мой огонь, который, если бы ему не дали прогореть, мог бы все спалить на своем пути» (I, 358). Делать нечего! Святилище осталось заказанным и запертым. Когда, двенадцать дней спустя, она уступила, и он наконец проник в это вожделенное святилище, она впустила его лишь на мгновение, высвободилась и встала. Ужасное разочарование Казановы, который оделся, вышел из дома и пошел подышать воздухом. С балкона его окликнула Меллула, куртизанка, чья красота уже четыре месяца очаровывала весь Корфу. Не надеясь на длительную связь с М.Ф., он перешел из ее спальни в полные неги покои куртизанки и удовлетворил в ее объятиях желание, распаленное тою, кого так долго вожделел.
«На третий день, встав с постели, я почувствовал некое неудобство: жжение. Я задрожал, представив, чем это могло быть. Решив внести ясность, я был как громом поражен, увидев, что заражен ядом Меллулы. У меня опустились руки… В глубокой печали, в четвертый раз став жертвой заразы, я подверг себя режиму, который за шесть недель вернул бы мне здоровье, так что никто бы об этом и не узнал; однако я снова ошибся. Меллула передала мне все ужасы своего ада, и через неделю я увидел все их несчастные симптомы» (I, 363). На сей раз болезнь была серьезнее, чем предыдущие, для излечения потребовались два месяца и услуги старого опытного врача. И тем не менее это тревожное происшествие имело в целом положительный итог. Как показала Шанталь Тома, «любовные истории, которые Казанова заключает признанием в глупой и грубой неверности, какую представляет собой венерическая болезнь, – чаще всего “порядочные” истории. Такое впечатление, что дабы положить конец неопределенному, сладострастно размытому “нет”, которое женщина противопоставляет его домогательствам (от этой игры он устает быстрее, чем она, и если случайно “нет” вдруг обращается в твердое и окончательное “да”, то вся игра внушает ему отвращение), он должен был нарушить чары запретного и утопить роман в грязи непоправимой вульгарности. Резко перейти от отчаяния куртуазной любви и дипломатических тонкостей к постыдному, но бесспорному удовлетворению. Визит к проститутке восстанавливает превосходство распутной немедленности над ожиданием любви. В этом смысле он выздоравливает»[34]. Распутник резко переходит от маячащего на горизонте наслаждения с конкретной особой, в конце концов предстающего недоступным, поскольку его постоянно отдаляют, следуя тактике соблазна, к немедленному, но недифференцированному удовлетворению, поскольку проститутка лица не имеет: одна стоит другой, хотя расценки меняются. Он подхватил заразу, но обрел свободу.
Вынужденный бежать из Венеции в начале 1749 года, он встретился в Милане с Мариной и провел с ней приятную ночь. Он предпочел бы этим ограничиться, но тут понял, что она ухлестывает за Балетти, с которым должна танцевать в одном мантуанском театре. Прибыв в этот город, в который он решил наведываться как можно реже, Джакомо был арестован патрулем, оказавшись среди ночи на улице, поскольку засиделся у одного книготорговца и нарушил комендантский час. Впрочем, арест прошел в теплой и приятной обстановке. Он провел развеселую ночь вместе с офицерами, забавляясь с двумя шлюхами, правда, весьма отталкивающей наружности, и играя в фараон. «На следующий день я почувствовал себя больным вследствие злополучной четверти часа, которую провел с плутовкой в караульной на площади Святого Петра. Я совершенно излечился в полтора месяца, единственно благодаря тому, что пил раствор селитры; но вынужден был подвергнуть себя режиму, от которого страшно скучал» (I, 447). Видно, что, когда это возможно, Казанова предпочитает самолечение.
Некоторые подумают, что полтора месяца лечения – дорогая цена за четверть часа удовольствия с потасканной публичной девкой. Но разве это был не самый верный способ окончательно сжечь мосты между ним и Мариной, предоставив ей жить своей жизнью и крутить любовь с Балетти? «Это заражение типично для Казановы. Носительница заразы – безликое тело: отвратительная проститутка или ловкая, но лишенная обаяния манипуляторша мужским желанием. Орудие рока, она не возбуждает желания к себе самой и стоит в стороне от постоянства, относящегося лишь к той, кого любишь. Казанова “принимает” болезнь, которая должна избавить его тело от принуждений влюбленной души, угрожающих человеку в его стремлении наслаждаться жизнью»[35], – пишет Ж.-Д. Венсан. Впрочем, сифилис приносит не только неприятности, о чем написано в заключение главы: «Два месяца, проведенных в Мантуе, я прожил как мудрец, совершив глупость в первый день. Я получил наслаждение лишь в тот единственный раз, и слава Богу; потерянное здоровье принудило меня следовать режиму, и тот, возможно, оградил меня от несчастий, которых бы я не избежал, если бы не был занят исключительно лечением» (I, 452).
Если нужно еще раз подтвердить, что болезнь приносит освобождение, достаточно вспомнить об окончании его связи с Генриеттой, самой большой любовью всей его жизни, и об их болезненном разрыве. Обретя понемногу вкус к жизни, в Парме Казанова пошел в театр, где заметил одну актрису. За двадцать цехинов он добился ее расположения. «Три дня спустя я обнаружил, что несчастная ублажила меня так же, как проститутка у О’Ни-лана». Он снова предал себя в руки хирурга по имени Фрерон, который был еще и дантистом. «Некоторые известные ему симптомы побудили его подвергнуть меня серьезному лечению. Из-за дурной погоды я был вынужден провести шесть недель в своей комнате» (I, 525). Тривиальность продажного сношения с актрисой и болезнь, неизбежно ставшая его следствием, были трауром по Генриетте.
В конце августа 1752 года Джакомо находится в Дрездене вместе с братом Франческо, художником, который проведет там четыре года, копируя в знаменитой картинной галерее все батальные сцены великих мастеров: «Мы повидались с нашей матерью; та оказала нам самый нежный прием, радуясь двум первым плодам своего брака, которых уже не надеялась увидеть вновь». Пустившись во все тяжкие, Казанова за первые три месяца пребывания в Дрездене перезнакомился со всеми продажными красавицами и нашел, что они «превосходят итальянок и француженок в том, что касается материи, но сильно отстают от них в изяществе, уме и искусстве нравиться» (I, 637). Это означает, что в этом городе наслаждение, носящее чисто сексуальный характер, не сопровождено прикрасами любви. Никакой духовности: словно было совершенно необходимо компенсировать материнское присутствие безудержной половой жизнью, уравновесить родственные чувства тривиальными совокуплениями. То, что должно было случиться при таких условиях напряженного и продажного сексуального конвейера, произошло с неизбежностью рока. «Остановило меня в этой грубой гонке недомогание, которое передала мне одна прекрасная венгерка из труппы Крепса. Это был уже седьмой раз, и я избавился от него, как всегда, следуя режиму в течение шести недель» (I, 637). При таких обстоятельствах венерическое заболевание становится обратной стороной угнетающего материнского присутствия и избавлением от него.
Новое пребывание в Дрездене: с осени по декабрь 1766 года. Как и в первый раз, он сначала отправляется к матери, жившей за городом. Прибыв со своей новой любовницей, подобранной в Бреслау, некоей Матон, Казанова поселился в гостинице «Штадт Ром» («город Рим»), расположенной на углу Неймарк и Морицштрассе. Напротив «Штадт Ром» стояла другая гостиница – «Отель Саксония»; там проживал со своей супругой, Терезой Ролан, брат Джакомо, Джованни, директор Академии художеств. Когда их мать Дзанетта бывала в городе, она жила в одном из верхних этажей того же здания: гостиница занимала лишь второй этаж. Топография важна, поскольку устанавливает соседство, напрямую относящееся к последующим событиям: Казанова буквально столкнулся нос к носу с родными и видел их комнаты (возможно, даже то, что в них происходит) из своего окна. Семейство и распутство лицом к лицу. «На следующий день сильная головная боль, которая была мне не свойственна, заставила провести меня весь день дома, я сделал себе кровопускание, и моя добрая матушка пришла составить мне компанию и поужинать вместе с Матон. Она полюбила ее и несколько раз просила меня прислать Матон составить ей компанию, на что я ни разу не согласился» (III, 392). Тесная близость матери и любовницы, которой сын явно не поощряет.
«На следующий день после кровопускания голова у меня была еще тяжелая, я принял лекарство. Вечером, ложась спать, я обнаружил, что подвергся галантному заболеванию, симптомы которого были весьма неприглядны. Я достаточно в этом поднаторел, чтобы ошибиться. Сильно удрученный, я был убежден, что это мог быть лишь подарок Матон, так как после Леопольда я имел дело только с ней. Я провел ночь, сильно гневаясь на плутовку, встал на рассвете, вошел к ней в спальню, отдернул занавески, она проснулась, я сел к ней на кровать, отбросил одеяло и вырвал из-под нее двойное полотенце, вид которого вызвал у меня отвращение. Затем я, не встречая сопротивления с ее стороны, исследовал все, что не потрудился изучить прежде, и обнаружил отвратительную лечебницу. Она призналась мне с плачем, что была больна уже полгода, но не думала, что передаст мне свою болезнь, поскольку всегда тщательно поддерживала чистоту и мылась перед тем, как заняться со мной любовью» (III, 492). Решительно, с Дрезденом ему не везло! Без всякой жалости он выгнал Матон, вынудив ее переехать в другую гостиницу, и снял на полгода весь второй этаж в том самом доме, где жила его мать. Он велел установить там мебель, необходимую для длительного лечения, так как понял, что опасность более чем серьезная. Неделю спустя он узнал от своего брата Джованни, что эта самая Матон уже заразила четырех или пятерых молодых людей, которые, в весьма плачевном состоянии, доверились врачу. «Это приключение не делает тебе чести», – заключил Джованни, не понимавший, что за необходимость была заболеть именно в том городе, где живет Дзанетта. «Дело в том, что эта мать – театральный персонаж, искусственная, ненастоящая, которая грозит сделать иллюзорным и собственное тело авантюриста, – утверждает Венсан. – Дважды он приезжает к ней в Дрезден и каждый раз встреча беспутного сына и актрисы запятнана сифилисом; он отталкивает ее гноем своих язв, как хорек отдаляет опасность своими выделениями. Настоящая мать не здесь, она запечатлена в мозгу ребенка, где, возможно, сливается с образом доброй бабушки»[36].
Когда стремишься снискать благосклонность первых красавиц, порой самым жалким образом попадаешь в ловушки. Двойной обман, как в том же веке практиковалось двойное непостоянство. В Швейцарии, а именно в Солере, в июне 1760 года Казанову дважды «поимели»: это не слишком сильно сказано, чтобы выразить то, что с ним приключилось. Казанова в очередной раз влюблен; проблема в том, что красавица М., баронесса де Ролль, муж которой дипломат первого ранга, но почти семидесятилетний старик[37], наверняка не оправдывающий ожиданий, занимает положение гораздо выше его собственного. Что за дело! Разве не говорят, что смелость города берет? Казанова снимает красивый загородный дом, чтобы устроить бал и лучшим образом принять там эту чету. К несчастью, первым делом к нему беспардонно является госпожа де Ф., подруга баронессы, преследующая его своей настойчивостью и авансами: «Это была вдова в возрасте от тридцати до сорока лет, – уточняет Казанова, – со злым умом, желтоватым цветом лица и с неловкой походкой, поскольку она не хотела обнаружить своей хромоты» (II, 313). Все вскоре уладилось, когда прибыли баронесса с мужем и устроились в апартаментах на первом этаже, напротив его собственных, в которых был альков с двумя кроватями, разделенными перегородкой. Когда наступила ночь, Казанова проскользнул в апартаменты где, как было условлено, должна была ждать его красавица: «Я открыл дверь во вторую прихожую, и тут меня схватили. Зажав мне рот рукой, она дала мне понять, что мне следует молчать. Мы упали на большое канапе, и в тот момент я очутился наверху блаженства. Было солнцестояние. У меня оставалось только два часа, и я не потерял из них ни одной минуты; я использовал их для возобновления свидетельств пожиравшего меня огня божественной женщине, будучи уверен, что сжимаю ее в объятиях… Ее неистовство, даже превосходившее мое собственное, возносило мою душу к небесам, и я был убежден, что из всех моих побед это была первая, которой я мог гордиться по праву» (II, 337). На сей раз в воодушевлении Казановы столько же социальных мотивов, сколько сексуальных. В нем разгорелся карьерист: не каждый день ему удается соблазнить женщину из высшего общества.
Каково же было ошеломление Казановы, когда на следующий день госпожа де М. сообщила ему, что прождала его напрасно до четырех часов утра. Он был уничтожен, поняв, что ее подменила собой хромая негодница. И испытал ужас, когда госпожа де Ф. сообщила ему письмом, что попутно «перекинула» ему свою болезнь. Отчаянию одураченного, зараженного Казановы не было предела, однако его привела в чувство экономка Дюбуа, составив макиавеллиевский план. Там получилось, что Ледюк, камердинер Казановы, тоже подхватил сифилис, переспав со швейцарской молочницей. Казанова написал г-же де Ф. первое письмо, в котором уверял, что той ночью не выходил из своей комнаты, и второе, в котором сообщил, будто только что узнал о заболевании своего слуги. Джакомо-де расспросил его, где тот подхватил венерическую заразу и узнал, что Ледюк переспал с ней. Бедный парень, кстати, твердо намерен с ней повидаться, и ему не удастся этому помешать. В довершение всего, чтобы довести нахалку до крайности, Казанова сам отправил к ней Ледюка, чтобы рассказать ей всю эту историю и осыпать ее укорами. Тем временем госпожа де Ф., униженная тем, что переспала со слугой, в виде компенсации передала ему двадцать пять луидоров, которые Джакомо широким жестом отправил ей обратно. Казанова отомстил за себя, тем более что болезнь оказалась простым генитальным герпесом, от которого можно было очень быстро избавиться.
Надо ли полагать, что в очередной раз венерическое заболевание во всей своей неприглядности занимает место подлинной страсти, чтобы «отвернуться от грозного лика всепобеждающей любви»[38] или чтобы оградить Джакомо от предсказуемого поражения, обусловленного непреодолимыми социальными различиями? Казанова отдаляется от баронессы, в любом случае недоступной аристократки, так и не совершив с ней по-настоящему плотского соития. Это неоспоримо. При условии, однако, что вся эта история не выдумка. Как мог Казанова заниматься любовью с одной женщиной, принимая ее за другую? Это трудно допустить, если не предположить, что ошибка Казановы мнимая, что, заметив, с кем он, он пожелал не узнавать ее сразу же. Фелисьен Марсо прав, когда «подозревает, что сочинитель одержал здесь верх над историографом»[39]. В самом деле, весь этот шутовской роман, где даже слуга из комедии играет свою роль, слишком напоминает эпизод, который мог бы выйти из-под пера Нерсиа или Вивана Денона. Надо ли полагать, что Казанова хотел таким образом замаскировать свой неуспех у баронессы де Ролль, унизительный и оскорбительный, поскольку он говорил о неспособности актерского сына вызвать к себе любовь женщины из высшего света и повысить свой социальный статус? Была ли эта история с путаницей выдумана, чтобы «снабдить пикантным концом приключение, которое без него осталось бы непонятным и, можно сказать, повисшим в воздухе»?[40]
До самого конца зловещая Англия также была роковой для Казановы. Переспав с любовницей так называемого барона фон Генау, который к тому же в уплату за карточный долг дал ему вексель, оказавшийся подложным, Казанова снова не на шутку заболел. «Через неделю после этого благого дела я обнаружил, что подхватил отвратительную болезнь, которая настигала меня уже трижды и от которой я излечился благодаря ртути и своему темпераменту… Эта болезнь, которую не дозволено называть в приличной компании, застигла меня очень некстати, то есть при наихудших обстоятельствах, ведь она никогда не может оказаться кстати» (III, 319). В самом деле, он решил отплыть в Португалию. Ни того, ни другого: нужно принимать лошадиные дозы лекарств: «Я решился прибегнуть к сильному лечению в Лондоне. Я был уверен, что в шесть недель верну себе здоровье и прибуду в Португалию во вполне приличном состоянии» (III, 319). К несчастью, обстоятельства – разумеется, финансовые: его даже преследовали по суду, – вынудили его отказаться от этого плана и как можно скорее отплыть во Францию через Дувр. Трудное путешествие, и это еще мягко сказано. Ему так плохо – судороги, бред, – что по дороге, в Рочестере, ему срочно приходится делать кровопускание. В Кале «огонь лихорадки, осложненный венерическим ядом, бывшим в моих венах, привел меня в такое состояние, что врач отчаялся за мою жизнь. На третий день я был на грани смерти. Четвертое кровопускание отняло у меня все силы и на сутки ввергло меня в летаргию, за которой последовал спасительный кризис, вернувший меня к жизни; но лишь соблюдая режим, я очутился в состоянии уехать, через две недели после приезда» (III, 322). На сей раз это в самом деле был сифилис, наверняка еще осложненный гонореей. Нечего хорохориться.
В путь, в Гравлин и Дюнкерк. «Слабый, удрученный расшатанным состоянием своего здоровья, ставившим под сомнение мое выздоровление, и своим ужасающим видом, похудевший, с пожелтевшей кожей, сплошь покрытой гнойниками и нарывами, которые мне надо было бы вскрыть, я забрался в почтовую карету» (III, 323). Теперь в Турне через Ипр. Там он повстречал графа Сен-Жермена. «Когда он узнал, какова моя болезнь, то заклинал меня остаться в Турне хоть на три дня и делать все, что он мне скажет. Он уверял меня, что я уеду, избавившись ото всех своих нарывов. Засим он дал бы мне пятнадцать пилюль, которые, если принимать их по одной, в пятнадцать дней полностью бы меня излечили. Я поблагодарил его за все и ничего не принял». Надо полагать, что шарлатаны XVIII века, как авгуры Древнего Рима, не доверяли друг другу. Брюссель, Льеж. Упреждающая гонка. По всей очевидности, на сей раз Казанова потерял голову и запаниковал. Состояние его не улучшается. По совету генерала Бекевица он отправляется в Везель, где практикует молодой врач лейденской школы, очень осторожный и умелый, – доктор Пиперс, любезно поселивший его у себя: «Он сообщил мне о методе, которого намеревался придерживаться для моего излечения. Потогонное средство и ртутные пилюли должны были избавить меня от яда, сводившего меня в могилу. Я должен был подчиниться строгой диете и воздержаться от всяких прилежных занятий» (III, 328).
Казанова, запертый в четырех стенах на шесть недель (время лечения), мог погибнуть от скуки. Добрый доктор, встревожившись этим, любезно попросил позволить его сестре, ради его развлечения, заниматься в его комнате рукоделием и болтать с двумя-тремя девушками, своими подружками. Поскольку кровать Казановы стоит в алькове с занавесями, никто не будет никого смущать. Странный эпизод покоя и отдохновения в «Истории моей жизни», полной шума и волнений. Странная жанровая сценка: венерическое заболевание и женская невинность в одной комнате. Казанове кажется, что он – это не он. Сифилис словно приостановил его жизнь, внес в нее пробел. Он будто примерил на себя чье-то чужое лицо. Надо сказать, что он чуть не погубил себя в Англии, и в любом случае уже больше не будет прежним. «Через месяц я вновь был здоров и в состоянии ехать дальше, хоть и сильно исхудал. Мысль о том, что я что-то оставил от себя в доме доктора Пиперса, лишившись некоего свойства моего характера, на меня не похожа. Он счел меня самым терпеливым из всех мужчин, а его сестра со своими хорошенькими подружками – самым скромным. Чтобы судить о человеке, надо изучить его поведение, когда он здоров и свободен; больной или в тюрьме, он уже не тот» (III, 329).
IX. Влюбиться
Те, кто думает, что женщина не способна вызвать в мужчине равную любовь в каждый из двадцати четырех часов суток, никогда не знали Генриетту.
В начале 1749 года Казанова уехал в Верону, потом в Милан, где у него был короткий роман с Мариной, младшей сестрой Беллино, с которой он уже однажды переспал. Затем в Мантую, в апреле, где, слишком много выпив, он очутился в постели проститутки, разумеется, заразной: новая болезнь, уже пятая. Любовь, игра в фараон. Совокупления со шлюхами и сифилис. Обычная жизнь Казановы вплоть до великой любви его жизни, первой и последней. Приехав летом в Чезену, где он в очередной раз одурачил в крупных размерах какого-то простачка, одним прекрасным утром осенью 1749 года Казанова проснулся на заре от страшного шума, царившего в гостинице. Церковные власти, обладавшие большой властью в XVIII веке во многочисленных областях Италии, прислали полицейских, чтобы те удостоверились, что венгерский офицер, который там остановился, в самом деле муж женщины, спящей в его постели. Вообще-то вся эта каша заварилась потому, что спутница офицера была одета в мужской костюм. Венгру пригрозили тюрьмой или штрафом в несколько цехинов. Разумеется, Казанова не мог не вмешаться. Он едва различил, скорее угадал, очертания женщины, закутанной в простыни, и ему не терпелось обнаружить ее лицо, которое он представлял себе очень симпатичным. Когда, наконец, она предстала его взгляду, он был очарован, увидев, как «из-под одеяла показалась растрепанная головка со свежим, смеющимся личиком, столь соблазнительным, что у меня не осталось сомнений относительно ее пола, хотя прическа была мужской» (I, 475). Удивленный сей недостойной низостью и возмущенный грубым вмешательством в чужую личную жизнь, Казанова, разбушевавшись, принимает это дело близко к сердцу, кричит о заговоре, требует возместить ущерб иностранным путешественникам, сносится с епископом, канцлером и генералом, пересказывает им эту историю, присочиняя от себя, и быстро добивается успеха. Это была любовь с первого взгляда, едва он окинул им с ног до головы молодую женщину поразительной красоты. Женственность в мужском обличье, как всегда, возбудила Казанову, никогда не остававшегося безучастным к некоей двуполости. Двусмысленность соблазняет только тогда, когда она напускная: это все-таки женщина в мужском платье. Она француженка, ее зовут Генриетта (имя, разумеется, вымышленное); она, конечно, гораздо моложе своего любовника, которому уже под шестьдесят и который говорит только по-венгерски, тогда как она говорит только по-французски. Сколько бы Казанова ни утверждал, что слова не важны для таких дел, какими они занимались, столь упрощенный способ общения ему, краснобаю, мог показаться худшим из лишений.
Генриетта станет самой лучшей из всех женщин, которых знавал Джакомо за свою распутную жизнь. В единственный раз он влюбился – событие исключительное, которое никогда больше не повторится. Когда офицер со своей спутницей отправились в Парму, Казанова поехал с ними. Начались странные переговоры: Джакомо обязался заменить собой венгерского офицера, который был счастлив так дешево отделаться от таинственной спутницы, подобранной на дороге и ставшей теперь для него обузой. Казанова прямо предложил Генриетте себя вместо ее предыдущего спутника, а ей – стать его любовницей. Уже в Реджио она отдалась ему, не оставшись равнодушной к его неотразимому очарованию и силе желания, к его готовности и способности воспользоваться любым представившимся случаем, к его любви к неожиданностям и экспромтам.
В конце августа Джакомо и Генриетта приезжают в Парму, всего несколько месяцев спустя после торжественного въезда в этот город испанского инфанта Филиппа, 7 марта 1749 года, и незадолго до прибытия его супруги, принцессы Луизы Елизаветы, дочери Людовика XV: после Ахенского мира, подписанного в 1748 году, в Парме, а также в Пьяченце и Гуасталле было восстановлено франко-испанское господство в ущерб Австрии. Едва новая чета очутилась в городе, как Казанова бросился по магазинам и составил Генриетте великолепный гардероб. Когда она нарядилась женщиной, ситуация в корне изменилась, причем не просто в плане одежды, но также – и в основном – в социальном смысле. Та, которую до сих пор можно было принять за авантюристку, отщепенку, женщину низшей пробы, шатающуюся по дорогам и меняющую любовников по своей прихоти и по мере необходимости, оказалась настоящей графиней, облачившись в одежду, присущую ее полу. Сам капитан, думавший, что имеет дело с обычной бродяжкой, был ошеломлен подобной метаморфозой. Смущенный, он понял, что обращался с ней грубовато. Казанова все больше и больше привязывался к Генриетте, из-за ее хороших манер и благородства ее чувств, свидетельствовавших о высоком рождении и изысканном воспитании. Какое счастье для Казановы, больше привыкшего к девушкам из народа, – впечатление того, что он поднялся по общественной лестнице благодаря своей любви! Какое тонкое наслаждение – быть любовником светской женщины!
Жизнь влюбленных, погруженных в счастье, нежно и спокойно текла в Парме, родном городе отца Казановы. Джакомо принимал предосторожности, так как знал, что Генриетту разыскивает ее прованская семья. По ее словам (или если верить Казанове), она сбежала от свекра, который хотел отдать ее в монастырь (история, по правде говоря, столь же темная, как и истинное происхождение Генриетты, ни один из казановистов так и не прояснил этот вопрос до конца). Тайные вылазки в оперу, поскольку она обожает музыку. Уроки итальянского языка. Пару приглашают к Дюбуа, главному управляющему пармского монетного двора, который устраивает концерт и легкий ужин. Крайнее удивление и сильное беспокойство Казановы, опасающегося нелепой шутки, когда Генриетта встала и взяла виолончель у одного молодого музыканта, «сказав ему со скромным и ясным видом, что придаст инструменту больший блеск» (I, 509). Она не солгала. Она прекрасно владела смычком и одна великолепно исполнила шесть раз концерт, который только что прослушала. Взволнованный тем, что он любовник столь выдающейся музыкантши, Казанова вышел поплакать: «Кто же такая Генриетта? Что это за сокровище, владельцем которого я стал? Мне казалось невозможным быть счастливым смертным, который ею обладал» (I, 510). Прогулка по садам Колорно, летней резиденции герцогов Пармских, освещенных всю ночь по случаю большого праздника. В их связь не просачивалась и толика скуки: «Я был очень счастлив с Генриетой, так же, как и она со мной: ни одна минутная колика, ни один зевок, ни один сложенный вдвое розовый листок не нарушил нашего согласия». Каждый раз, когда он спал с нею, ему казалось, что это в первый раз. Единственный акт, повторение которого не притупляет его совершенства. Каждый раз, когда они беседовали, она восхищала его своей способностью рассуждать, как ученый.
Все кончилось после трех месяцев чистой любви, когда Генриетту узнал г-н д’Антуан, друг семьи. Во время разговора, при котором Казанове даже не было дозволено присутствовать, она обговорила условия своего возвращения во Францию, где смешивались вопросы чести и нотариальные акты. Пробыв две недели в Милане, он повез ее в Женеву, где они жили в гостинице «Весы». Там банкир Троншен вручил ей тысячу луидоров, половину из которых она тотчас передала Казанове. Как будто сведение финансовых счетов было также способом придать чистоту счетам любовным. Она уехала на рассвете, так и не раскрыв ему своего настоящего имени. Один в своей комнате, Казанова провел один из самых грустных дней в своей жизни. «Я увидел, что на стекле одного из двух окон было написано: “Ты позабудешь и Генриетту”. Она нацарапала эти слова бриллиантом из кольца, которое я ей подарил. Это пророчество не могло меня утешить; но какое значение придавала она слову “забыть”? По правде говоря, она могла иметь в виду лишь то, что рана зарубцуется, и поскольку это естественно, не стоило делать мне горьких предсказаний. Нет. Я не забыл ее, и каждый раз, вспоминая о ней, лью бальзам на израненную душу» (I, 521). Когда позднее, 20 августа 1760 года, Казанова остановился в той же самой гостинице «Весы», то снова наткнулся на эту надпись, о которой уже не вспоминал: «Подойдя к окну, я случайно взглянул на стекло и увидел нацарапанное бриллиантом “Ты позабудешь и Генриетту”. Я тотчас вспомнил тот момент, когда она написала для меня эти слова, уже тринадцать лет тому назад, и волосы встали у меня дыбом… Ах, моя дорогая Генриетта! Благородная и нежная Генриетта, которую я так любил, где ты?» (II, 398). История кажется подлинной, поскольку эту надпись прочитает в 1828 году Джеймс Говард Гаррис, граф Мальмесбург, во время своего пребывания в Женеве.
С болью в сердце Казанова возвращается в Италию, преодолев верхом на муле перевал Сен-Бернар. Прибыв в Парму после ужасного перехода через Альпы, он получил письмо от Генриетты: «Это я должна была тебя покинуть, мой единственный друг. Не растравляй же свою боль, думая о моей. Давай представим, будто нам снился чудный сон, и не будем жаловаться на судьбу, ведь столь приятный сон никогда не длится долго. Порадуемся тому, что мы сумели быть совершенно счастливы три месяца подряд; мало смертных могут сказать о себе то же. Не забудем же друг друга никогда и станем часто вспоминать о нашей любви, чтобы возродить ее в наших душах, которые, хоть и разлучены, возрадуются ей еще с большей живостью. Не старайся ничего обо мне разузнать, и если случай сообщит тебе, кто я, притворись, будто ты этого не знаешь. Знай, мой дорогой друг, что я так хорошо распорядилась своими делами, что всю свою оставшуюся жизнь буду счастлива, насколько это возможно без тебя. Я не знаю, где ты, но знаю, что никто на свете не знает тебя лучше меня. У меня больше не будет любовников во всю мою жизнь; но я желаю, чтобы ты не думал поступать так же. Я хочу, чтобы ты любил еще, и даже чтобы ты нашел другую Генриетту» (I, 522).
С Генриеттой еще не все кончено: в «Мемуарах» речь о ней зайдет еще дважды. Когда в мае 1763 года Казанова, уехав из Марселя со своей любовницей Марколиной, которую он увел у своего брата аббата, направлялся в Авиньон, под конец дня дышло его кареты сломалось, и починка обещала быть долгой. На ночь они нашли приют в доме по соседству, где жили пять человек, в том числе хозяйка, вдова, очаровательная и приветливая графиня, которая провела ночь с Марколиной, что он сразу же заподозрил, увидев их ласки, и что она подтвердила ему без обиняков на следующее же утро. Они снова пустились в путь. В Авиньоне Марколина вручила ему письмо, которое доверила ей графиня, велев отдать адресату, только когда они прибудут в этот город: «Я распечатал его и увидел адрес, написанный по-итальянски: “Самому честному мужчине на свете, какого я знала”. Развернул и увидел в низу страницы: “Генриетта”. Это было все. Она оставила лист чистым» (III, 68). Так значит, она видела его, не пожелав, чтобы он видел ее. Странно все-таки, что он ее не узнал, ведь он так ее любил! Тем более что один раз он наклонился к ней, чтобы ее поднять: она оступилась и упала, пытаясь догнать своего спаниеля. Ну что ж! Он не видел ее тринадцать лет, и возможно, физически она сильно изменилась. Кроме того, сознавая странность этого неузнавания, Казанова всячески его обосновывает. Ситуация тем более необычная, что Генриетта, пообещавшая в письме к Казанове более не иметь любовников, берет себе любовницу, причем еще любовницу самого Джакомо. То ли хочет доказать ему, что еще может быть счастлива, как предполагает Казанова? То ли желает показать, что не заменила его другим мужчиной? То ли подтверждает, что она больше не Генриетта, но прованская графиня, которую ему уже и не узнать, поскольку она другая? «Все произошло так, словно он буквально следовал полученному давным-давно приказу не узнавать ее, если случай сведет его с нею»[41], – пишет Ш. Тома. Сознательное или бессознательное согласие. Реакция момента или результат позднейшего литературного восстановления событий? На самом деле, это неважно, поскольку и так ясно, что самую совершенную любовь не возобновить дважды с тем же самым человеком. Важно было, чтобы роману окончательно был положен конец.
Шестью годами позже, в 1769 году, то есть теперь уже через двадцать два года после расставания в Женеве, Казанова снова едет через Экс-ан-Прованс. В гостинице он ложится спать, чувствуя сильное колотье в правом боку. У него открылся плеврит, и около десяти дней он пробыл между жизнью и смертью. Восемнадцать дней он харкал кровью. «Во все время этой острой болезни за мной денно и нощно ухаживала женщина, которой я не знал, как не знал и откуда она взялась. В том состоянии апатии, в каком я находился, я не стремился узнать, откуда взялась эта женщина; за мной прекрасно ухаживали, и я ждал выздоровления, чтобы отблагодарить ее и отправить восвояси» (III, 717).
Во все свое пребывание в Эксе он беспрестанно думал о Генриетте. Отныне он знает ее настоящее имя и, выздоровев, отправляется в ее замок. Ее там нет, она в самом Эксе. Ему позволяют войти, чтобы написать ей письмо, и к своему крайнему удивлению он натыкается на свою сиделку. Это ее хозяйка, Генриетта, отправила ее к Казанове, чтобы о нем позаботиться. С почтой, полученной в Марселе до востребования, он получил ответ Генриетты: «Я вдова, счастлива и довольно благополучна, так что предупреждаю Вас, что если у банкиров не достанет для Вас денег, Вы всегда сможете найти их в кошельке Генриетты. Не возвращайтесь в Экс, чтобы узнать меня, ибо Ваше возвращение наведет на всякие мысли; но если Вы вернетесь через некоторое время, мы сможем видеться, хотя и не как старые знакомые» (III, 732). Она предлагает ему переписку, в которой расспрашивает, что он делал после побега из Пьомби, и рассказывает ему свою историю до их встречи в Чезене. Если верить Казанове, Генриетта подробно рассказала ему о своей жизни в тридцати – сорока письмах, и в отличие от вечно любопытных и нескромных казановистов я не сожалею о том, что они до нас не дошли. История этой страсти еще прекраснее оттого, что тайна ее не нарушена.
Стоит ли теряться в догадках, задаваясь вопросом о том, почему божественная и возвышенная Генриетта стала величайшей любовью его жизни? Наверняка она показалась ему невероятно прекрасной, и пикантности ее красоте придавал ее первый, мужской наряд. Наверняка она обворожила его окружавшей ее тайной: каким образом странное поведение независимой, дерзкой и храброй авантюристки сочеталось в ней с умом и хорошими манерами – свидетельством прекрасного воспитания, полученного от лучших учителей? Кто она, эта девушка из высокородной семьи, исполненная возвышенных чувств и ведущая себя как самая бесстыдная распутница, переходя, не моргнув глазом, от одного мужчины к другому? Генриетта не утратит ореола загадочности, поскольку ее тайна не будет раскрыта. Она никогда не будет ничего рассказывать о превратностях своей жизни, только о том, что у нее есть муж и свекор – настоящие чудовища. Ее загадка – главное условие их любви: «Прошу тебя, – сказала ему она, – не старайся разузнать о моем прошлом». Наверняка в его глазах она была совершенным воплощением французского ума: «Генриетта много читала и, обладая прирожденным вкусом, прекрасно судила обо всем; не будучи ученой, она рассуждала, как геометр. Не претендуя на глубину ума, она никогда не говорила ничего важного, не сопровождая своих слов смехом, который, придавая им блеск фривольности, делал их доступными всей компании. Тем самым она передавала ума тем, кому его неоткуда было взять, и они любили ее до обожания» (I, 501). Когда тело истощено, на смену приходит беседа. «Счастливы любовники, которым ум может заменить чувства, когда они нуждаются в отдыхе!» (I, 507). Наверняка она была аристократкой, удовлетворявшей его честолюбие и тщеславие разночинца, позволяя стать любовником женщины из лучшего общества и создавая впечатление, будто он наконец получил доступ в высший свет.
Еще важнее тот факт, что эта связь сразу воспринималась в своей конечности, в неизбежных временных пределах: прямая противоположность счастья, когда ты внутренне убежден, что оно будет взаимным и продлится до самой смерти любовников. «Единственная деталь ее прошлого, которую Генриетта позволила Казанове узнать (через своего любовника, с которым она расстается), позволяла ему разглядеть скорый конец романа, который еще не начался»[42], – пишет Ш. Тома. Генриетта и Джакомо прекрасно знают, что долгое счастье лишь то, которое должно кончиться. Вопреки философии, отрицающей совершенство счастья, потому что оно не вечно, нужно допустить, что оно и может быть совершенным лишь тогда, когда не вечно: «Что понимают под этим словом “долгое”? – сказала мне однажды Генриетта. – Если “вечное”, “неизменное”, то это правда; но поскольку человек не вечен, то и счастье не может быть вечным: а так любое счастье долгое, ибо для того, чтобы быть таковым, оно просто должно существовать. Но если под совершенным счастьем подразумевают череду различных и непрерывных наслаждений, то снова ошибаются; ибо чередуя наслаждения с покоем, который должен следовать у каждого за блаженством, мы даем себе время признать состояние счастья в его действительности. Человек может быть счастлив только тогда, когда признает себя таковым, а узнать он себя может только в покое. Значит, без покоя он никогда не будет счастлив. Значит, наслаждение, чтобы быть таковым, должно кончиться» (I, 506).
В случае Джакомо и Генриетты прошлого не существует, поскольку его намеренно замалчивают и игнорируют, а вопрос о будущем не стоит, поскольку любовники с самого начала знают о том, что их связь ограничена во времени. Значит, нужно жить настоящим, не теряя ни минуты. Страстью к Генриетте вдохновлены и слова, которые Казанова напишет по поводу своей будущей любви к Розалии: «Наконец-то она составила мое счастие; и поскольку в жизни нет ничего более реального, чем настоящее, я наслаждался им, отбрасывая образы прошедшего, ненавидя мрак всегда ужасного будущего, ибо в нем нет ничего верного, кроме смерти, подводящей черту» (II, 524). Только чистое присутствие в настоящем, не заглядывая ни назад, ни вперед, дает наслаждение. «Такова мера совершенного момента у Казановы: это момент чистой новизны, когда ничто не в счет, ни прошлое, ни будущее, а настоящее ограничено радостью, вкушенной в его рамках. Момент, который ничто не подготавливает и тем более не продлевает. Нужно обладать им таким, каков он есть, именно в тот момент, когда он есть. Никаких длительных осад или терпеливо выстроенных обольщений. Никаких связей, продолжающихся по ту сторону предела, когда они уже не составляют наслаждения. Казанова не герой ни “Опасных связей”, ни “Адольфа”. Победы и разрывы для него – почти что действия момента. Счастье никогда не будет перманентным состоянием. Это способ испытать мгновенно нечто мгновенное по своей природе»[43], – рассуждает Жорж Пуле. По сути, в случае с Генриеттой нет необходимости вести долгую осаду, чтобы овладеть ею, а развязка обладает четкостью классического стихотворного ритма[44]. Это не тот разрыв, который, затягиваясь, вовлекает агонизирующую страсть в скучные, нескончаемые будни. Резкий обрыв, подобный перелому.
Таким образом, уже на заре связи четко виден не только ее конец, но еще и забвение, составляющее суть философии и этики распутства. Если распутник не способен забывать, он останется привязан к своему прошлому и не сможет пуститься в новые приключения.
После ухода возлюбленной Генриетты Казанова переживет по меньшей мере трудный период. Упадок духа, нестерпимую боль. Необходимую болезнь, чтобы покончить со страстью. Приступ набожности, чтобы поставить крест на былом. Возвращение в Венецию, где, как его любезно предупредил Брагадин, его проказы уже позабыты.
Х. Париж I
Я не хотел выходить на первый план, но желал присутствовать на сцене.
В Светлейшей республике, где, разумеется, он сразу же встретился с радушным трио Брагадин – Дандоло – Барбаро, Казанова той весной 1750 года не совершил ничего примечательного, разве что освободил некую Маркетти из заточения, в которое ее вверг ее кузен аббат, и пообещал жениться на ней, что обычно его ни к чему не обязывало. В результате этой темной истории он был вызван к патрицию Контарини даль Цоффо. Повестку ему принес Игнацио, курьер грозного суда государственных инквизиторов. Хотя встреча с инквизитором никак не повредила Казанове, он тем не менее решил, что в Венеции ему еще не рады и было бы разумнее временно оттуда уехать.
Когда Антонио Балетти, не кто иной, как сын Марио Балетти и знаменитой Сильвии, известной актрисы Итальянской Комедии, получил от семьи 16 мая 1750 года вызов в столицу Франции, Казанова решил ехать с ним в Париж. Стремительный полет во Францию. На рысях, даже совокупления совершаются бегом. Срочное сношение в Ферраре: «Давай быстрей», – велит Казанова своей любовнице на одну ночь. «Подожди. Закрой дверь. Ты права. Это эпизод, но очень симпатичный» (I, 548).
В июне они проезжают через Лион, где Казанова познакомился с господином де Рошбароном, благодаря которому был допущен в масонскую ложу и стал масоном-учеником. Двумя месяцами позже он поднялся в Париже ступенькой выше – стал подмастерьем, по его словам, в ложе герцога де Клермона. Еще через несколько месяцев достиг третьего ранга – мастера, став мастером-шотландцем. Не следует придавать этому большого значения. Казанова, которому не было никакого дела до убеждений и самих обрядов масонов, видел в этом только лишний способ проникнуть за кулисы общества, завязать полезные связи.
Франция покорила его сразу. Хотя он сожалеет об овальной форме дилижанса, не позволяющей сидеть в углу, и о слишком усовершенствованной подвеске, от которой его укачивает, он все-таки восхищен французским умением жить, которое почувствовал уже по дороге: «Мне очень понравилась красота проезжей дороги, бессмертное творение Людовика XV, чистота постоялых дворов, еда, которую там подавали, быстрота, с какой нас обслуживали, прекрасные постели, скромный вид особы, прислуживавшей нам за столом, которая чаще всего была самой замечательной девушкой в заведении и чьи повадки, опрятность и манеры способны держать распутство в узде. Кто у нас в Италии с удовольствием бы смотрел на слуг в гостиницах, на их наглый вид, на их дерзость? Во Франции в те времена не знали, что значит завышать цену; Франция была родиной для иностранцев» (I, 557).
Прибыв в Париж в конце июня 1750 года, он был встречен слугой Сильвии, который проводил его на отведенную ему квартиру на улице Моконсей, совсем рядом с Итальянским театром. Вечером у Балетти состоялся семейный ужин на улице Де-Порт-Сен-Совер (теперь улица Дюссу), чтобы отметить приезд дорогого сына и Джакомо. «Казанову они приняли как собственного сына. Впрочем, он в некоторой степени и был таковым, поскольку Марио Балетти, отец семейства, был родным сыном Фраголетты, которая, как мы помним, была любовницей отца Казановы»[45], – уточняет Ф. Марсо. Удивительная семья Балетти сама составляла целую театральную труппу. Отец, Жозеф (сценическое имя – Марио), муж Сильвии, сорок лет подряд играл роли первых любовников. Антонио Балетти начал театральную карьеру в том же амплуа в 1742 году в Итальянском театре, а затем стал балетмейстером в Милане, Мантуе и Венеции. Вызванный семьей в Париж в 1750 году, он десять лет играл роли вторых любовников, имея большой успех. Елена Мария Риккобони, сестра Марио, была актрисой под псевдонимом Фламиния: после смерти своего мужа в Парме, где она провела два года, с 1729-го по 1731-й, она вернулась в Париж и вновь поступила в Итальянский театр. Ее брат Луи Жозеф, по прозванию Младший, не изменил семейной традиции и также дебютировал в Итальянском театре как танцовщик. Тем не менее семейной звездой была сама Сильвия, хвалу которой воспевает Казанова: «Эта актриса была кумиром всей Франции, на ее таланте держались все комедии, которые писали для нее самые маститые авторы, в основном Мариво. Без нее эти комедии были бы однодневками. Актрисы, способной ее заменить, так и не нашлось, и никогда не найдется, ибо ей бы пришлось соединить в себе все таланты, которыми обладала Сильвия в непростом искусстве театра, – игру, голос, мимику, ум, манеру держаться и знание человеческого сердца. Все в ней было естественно; искусство, сопровождавшее и усовершенствовавшее природу, было незаметно» (I, 560). Читая столько похвал, поневоле задумаешься, какими все-таки были отношения между Казановой и Сильвией? Она не была счастлива в браке: общеизвестно, что ее муж, Жозеф Балетти, игрок и пьяница, бил ее «смертным боем», возможно, из ревности, так как молва приписывала Сильвии галантные приключения вопреки тому, что утверждает Казанова, настаивающий на крайней чистоте ее нравов. Он подчеркивает, что она не ставила себе в особую заслугу пристойное поведение, не принимала из-за этого вид превосходства и любила даже тех своих приятельниц, которые не блистали добродетелью. Все-таки это чересчур! Если обратиться к рапортам, составленным в 1752 году полицейским инспектором Менье, у которого не было никаких особенных причин обвинять его и клеветать, «Казанова, итальянец, живет в настоящее время на счет девицы Сильвии из Итальянского театра»; и еще: «Мадемуазель Сильвия живет с Казановой, итальянцем, который, как говорят, сын актрисы. Содержит его она». К тому времени Сильвии, зрелой женщине, было за пятьдесят, тогда как Джакомо всего двадцать восемь лет. Тем не менее она продолжала нравиться и увлекать, как то доказывает симпатичный портрет, написанный с нее венецианцем: «Она показалась мне выше всего, что о ней говорили. Ей было пятьдесят лет, фигура ее была элегантной, вид благородный, как и все ее манеры, непринужденная, любезная, веселая, с тонкими суждениями, вежливая со всеми, исполненная ума, лишенного всякой претенциозности. Ее лицо было загадкой, она была интересной и нравилась всем, и несмотря на это, вглядевшись, ее нельзя было назвать красавицей; но так же никто никогда не посмел бы объявить ее дурнушкой. Нельзя было сказать, что она ни красива, ни дурна, ибо ее привлекательный характер бросался в глаза; какова же она была? Красива; но по законам и пропорциям, неизвестным никому, кроме тех, кто, чувствуя, будто некая неведомая сила влечет их любить ее, имели смелость изучать их и силу узнать их» (I, 560). Начал ли он жизнь жиголо, как его покойный отец с Фраголеттой? Или же это сплетни, пересказываемые инспектором? Черная клевета, переходившая в Париже из уст в уста? Постельные пересуды, разносимые людским злословием? По правде говоря, Казанова никогда не принадлежал к тем людям, кто отказывается от удобного случая, когда таковой предоставляется, и его добродетель никогда не была таковой, чтобы можно было сомневаться в его пользу. Во всяком случае, вряд ли Казанова стал бы хвалиться в «Мемуарах» тем, что был на содержании у более чем зрелой женщины по меркам того времени. Это тем менее подлежало огласке, что позднее, во время своего второго пребывания во французской столице, Джакомо стал официальным женихом Манон, дочери Сильвии, которой пока всего девять лет. Понятно, что ему было бы нелегко признать, что за два посещения он перешел от матери к дочери.






