Алая буква (сборник) Готорн Натаниель
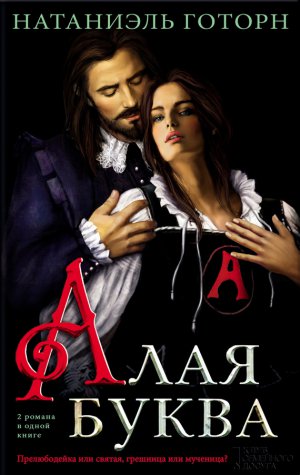
Об авторе
Натаниэль Готорн мало известен нашему читателю, а между тем он один из признанных мастеров американской литературы. Готорн написал несколько романов, а также множество мистических и романтических рассказов и детских повестей.
Будущий писатель родился в 1804 году в Салеме, штат Массачусетс, в семье морского капитана. Предки его были ревностными пуританами, принадлежавшими к одной из первых волн переселенцев на американский континент. Они отличались крайней строгостью нравов, расчетливостью и бережливостью. Пуритане-кальвинисты отрицательно относились к празднествам и развлечениям, а нарушения морали рассматривали как уголовные преступления. Именно колонисты-пуритане устроили в конце семнадцатого века знаменитый Салемский суд над женщинами, обвиненными в колдовстве, закончившийся массовой казнью «ведьм». Среди судей, вынесших обвинительный приговор, был предок Натаниэля Готорна.
Мрачное наследие этих событий всю жизнь тяготило будущего писателя. С детства он был замкнутым и нелюдимым. Ранняя смерть отца обрекла семью на бедное, затворническое существование. После окончания колледжа Готорн уединенно жил в родном Салеме, работая над своими первыми произведениями, заметное место в которых занимала тема вины за старые грехи, в том числе за деяния предков. После неудачной публикации первого романа он издал сборник рассказов, который был хорошо принят и даже с восторгом оценен классиками американской литературы Генри Лонгфелло и Эдгаром По.
В это же время Готорн увлекся различными философскими учениями и даже вступил в 1841 году в коммуну фурьеристов-социалистов-утопистов, члены которой стремились сочетать физический труд с духовной культурой. Коммуна гарантировала каждому участнику жилье, средства к жизни, бесплатное образование и медицинскую помощь. В течение нескольких месяцев Готорн работал как простой фермер, а по вечерам участвовал в беседах на философские и моральные темы, однако вскоре разочаровался в идеях коммунаров и ушел из общины.
Готорн был вынужден пойти на службу таможенным чиновником, искал подработки на литературном поприще. Он планировал издать сборник «Старинные легенды», для которого были уже готовы некоторые рассказы и общий вступительный очерк «Таможня». Для этого сборника Готорн решил написать «длинный рассказ» или повесть из жизни Бостона времен колонизации. Так появился роман «Алая буква», который писатель создал менее чем за полгода. После публикации в 1850 году роман стал бестселлером и с тех пор считается одним из краеугольных камней американской литературы. Это был первый из американских романов, вызвавший широкий резонанс в Европе. «Алая буква» – настоящее художественное открытие, роман не о сухих исторических фактах, а о трагических и волнующих человеческих судьбах.
Через год после успешного издания «Алой буквы» Натаниэль Готорн издал роман «Дом с семью шпилями», посвященный истории вековой вражды двух американских семейств, приведшей их к упадку. Это произведение стало вторым по популярности среди литературного наследия Готорна.
Однако Готорн вместе со славой подвергся нападкам. Жители Салема, сохранившие строгие пуританские нравы предков, были настолько разгневаны романом, что Готорну пришлось увезти семью в Беркшир. В дальнейшем он принял должность американского консула в Ливерпуле и жил в Европе, где отношение к его творчеству было намного демократичнее. Готорн посетил также Италию, Шотландию и, вернувшись в Америку, застал самый разгар гражданской войны. Его друг Франклин Пирс был объявлен изменником, и посвященная ему новая книга принесла Готорну множество неприятностей. Последние годы писатель провел в полном уединении.
Произведения Натаниэля Готорна были так успешны, что уже в 1855 году по сюжету одной из его книг была поставлена опера, а в 1908-м снят первый фильм. С тех пор его романы экранизировались многократно, а в голливудской версии «Алой буквы» (1995) снимались такие известные киноактеры, как Деми Мур, Гэри Олдмен и Роберт Дюволл.
Захватывающий сюжет, трогательные истории любви, яркий исторический фон – чтение этих романов доставит вам незабываемое удовольствие.
Алая буква
Примечание редактора
«Алая буква» появилась, когда Натаниэлю Готорну уже исполнилось сорок шесть, а его писательский опыт насчитывал двадцать четыре года. Он родился в Салеме, штат Массачусетс, 4 июля 1804 года, в семье морского капитана. В родном городе он вел скромную и крайне монотонную жизнь, создав лишь несколько художественных произведений, отнюдь не чуждых его мрачному созерцательному темпераменту. Те же цвета и оттенки чудесно отражены в его «Дважды рассказанных историях» и других рассказах времен начала его первого литературного периода. Даже дни, проведенные в колледже Боудин, не смогли пробиться сквозь покров его нелюдимости; но под этим фасадом его будущий талант к обожествлению мужчин и женщин развивался с невообразимой точностью и тонкостью. Для полного эффекта восприятия «Алую букву», говорящую столь много об уникальном искусстве воображения, сколь только можно почерпнуть из его величайшего достижения, следует рассматривать наряду с другими произведениями автора. В год публикации романа он начал работу над «Домом с семью шпилями», более поздним произведением, трагической прозой о пуританской американской общине, такой, какой он ее знал, – лишенной искусства и радости жизни, «жаждущей символов», как охарактеризовал ее Эмерсон. Натаниэль Готорн умер в Плимуте, штат Нью-Хэмпшир, 18 мая 1864 года.
Далее следует список его романов, рассказов и других работ:
«Фэншо», издан анонимно в 1826; «Дважды рассказанные истории», I том, 1837; II том, 1842; «Дедушкино кресло» (История Америки для юных), 1845; «Знаменитые старики» (Дедушкино кресло), 1841; «Дерево свободы: последние слова из дедушкиного кресла», 1842; «Биографические рассказы для детей», 1842; «Мхи старой усадьбы», 1846; «Алая буква», 1850; «Правдивые исторические и биографические рассказы» (Полная история дедушкиного кресла), 1851; «Книга чудес для девочек и мальчиков», 1851; «Снегурочка и другие дважды рассказанные рассказы», 1851; «Блитдейл», 1852; «Жизнь Франклина Пирса», 1852; «Тэнглвудские рассказы» (2-й том «Книги чудес»), 1853; «Ручеек из городского насоса», с примечаниями Тельбы, 1857; «Мраморный фавн или роман Монте Бени» (4-я редакция) (в Англии публиковался под названием «Преображение»), 1860; «Наш старый дом», 1863; «Роман Долливера» (1 часть опубликована в журнале «Этлэнтик Маунсли»), 1864; в 3-х частях, 1876; «Анютины глазки», фрагмент, последняя литературная попытка Готорна, 1864; «Американские записные книжки», 1868; «Английские записные книжки», под редакцией Софии Готорн, 1870; Французские и итальянские записные книжки, 1871; «Септимус Фэлтон, или эликсир жизни» (из журнала «Этлэнтик Маунсли»), 1872; «Тайна доктора Гримшоу» с предисловием и примечаниями Джулиана Готорна, 1882.
«Рассказы Белых Холмов, Легенды Новой Англии, Легенды губернаторского дома», 1877, сборник рассказов, ранее напечатанных в книгах «Дважды рассказанные истории» и «Мхи старой усадьбы», «Зарисовки и исследования», 1883.
Готорн много издавался в журналах, и большинство его рассказов сначала выходили в периодических изданиях, в основном в «Зэ Токен», 1831–1838; «Нью Ингланд Мэгэзин», 1834, 1835; «Кникербокер», 1837–1839; «Демэкретик Ревью», 1838–1846; «Этлэнтик Маунсли», 1860–1872 (сцены из «Романа Долливера», «Септимуса Фэлтона» и отрывки из записных книжек Готорна).
Сочинения: в 24-х томах, 1879; в 12-ти томах, со вступительными очерками Лэтропа, Риверсайд Эдишен, 1883.
Биография и прочее: А. Х. Джапп (под псевдонимом Х. А. Пэйдж) «Мемуары Натаниэля Готорна», 1872; Дж. Т. Филд «Прошлое с авторами», 1873; Дж. П. Латроп «Исследования Готорна», 1876; Генри Джеймс «Английские писатели», 1879; Джулиан Готорн «Натаниэль Готорн и его жена», 1885; Монкур Д. Конвей «Жизнь Натаниэля Готорна», 1891; «Аналитический алфавитный указатель работ Готорна» Е. М. О’Коннор, 1882.
Таможня
Вступительный очерк к роману «Алая буква»
Осмелюсь признаться, что – хоть я и не склонен распространяться о себе и своих делах даже у камина, в компании близких друзей – автобиографический импульс дважды овладевал мною в жизни и я обращался к публике. Впервые это случилось три или четыре года назад, когда я почтил читателя – без причин и без малейшего объяснения, которые могли бы представить себе снисходительный читатель или назойливый автор, – описанием моей жизни в Старой Усадьбе. И теперь – поскольку в прошлый раз я был счастлив обнаружить нескольких слушателей вне моего уединенного обиталища, – я вновь хватаю публику за пуговицу и говорю о своем трехгодичном опыте работы в таможне. Примеру знаменитого «П. П., приходского писца» еще никогда не следовали с такой беззаветностью. Однако истина, как мне кажется, заключается в том, что автор, доверив свои листки порывам ветра, обращается не к тем многим, кто отбросит книгу или никогда не станет ее открывать, но к тем немногим, кто поймет его лучше, чем большинство однокашников или знакомых по зрелой жизни. Некоторые авторы заходят еще дальше, позволяя себе такие глубины личных откровений, которые могли бы быть адресованы лишь только одному, самому близкому разуму и сердцу; так, словно книга, брошенная в огромный мир, наверняка найдет ту разделенную с автором часть его природы и завершит круги его жизни, соединив их воедино. Едва ли пристойно говорить обо всем без остатка, даже когда мы говорим не лично. Однако мысли порой застывают, а дар слова порой отказывает, когда у говорящего нет истинной связи с аудиторией, а потому простительно представлять себе, что речь наша обращена к другу, вежливому и понимающему, пусть даже не близкому. Тогда врожденная сдержанность сдается перед чистым разумом и мы можем болтать об окружающих нас обстоятельствах и даже о себе, храня, меж тем, истинное «Я» сокрытым под вуалью. В этой мере и в этих границах автор, считаю я, может позволить себе автобиографию, не нарушая прав ни читателя, ни своих.
А кроме того, будет видно, что этот очерк о таможне уместен в определенной мере, в той, что всегда признавалась литературой, поскольку он объяснит, как ко мне пришла немалая часть последующих страниц, и послужит доказательством истинности изложенного мною в рассказе.
Это же, к слову – желание поставить себя на надлежащее мне место редактора, и лишь немногим более того, – это, и ничто другое, является истинной причиной, по которой я лично обращаюсь к публике. С целью достижения главной моей цели мне показалось приемлемым добавить несколько дополнительных штрихов для слабого отображения стиля жизни, который ранее не был описан, и несколько персонажей, в числе которых пришлось побывать и автору.
В моем родном городе Салеме, во главе того, что полвека назад, во времена старого Короля Дерби[1], было процветающей верфью, а теперь превратилось в скопище гниющих деревянных складов почти без признаков всякой торговли, кроме разве что барки или брига, разгружающего кожи где-нибудь посреди ее меланхоличных просторов, или шхуны из Новой Шотландии, избавляющейся чуть ближе от привезенных дров, – в самом начале этой обветшалой верфи, которую часто захлестывает приливом и вдоль которой, у фундаментов и торцов длинного ряда зданий, долгие годы бездеятельности видны по полоске чахлой травы, – здесь, передними окнами обратившись к упомянутому безжизненному виду, а за ним и к другой стороне гавани, стоит величественное просторное кирпичное здание. С верхней точки его крыши ровно три с половиной часа ежедневно то парит, то свисает, повинуясь смене штиля и бриза, флаг республики; но тринадцать полос на нем расположены вертикально, не горизонтально, тем самым показывая, что правительство дяди Сэма расположило здесь свой гражданский, а не военный пост. Фронтон здания украшен портиком с полудюжиной деревянных колонн, поддерживающих балкон, под которым пролет широких гранитных ступеней спускается к улице. Над входом парит огромный образчик Американского орла, с распахнутыми крыльями и щитом на груди, и, если я правильно помню, в каждой лапе он держит пучок острых стрел, перемешанных с молниями. Известный дурной характер этой недоброй птицы навевает мысль о том, что она словно грозит своим хищным взглядом и клювом мирному обществу, заставляя мирных граждан беспокоиться о собственной безопасности, когда они входят в здания, которые птица осеняет своими крыльями. И все же, при всей хитрости этой эмблемы, многие люди и в этот текущий момент ищут приюта под крылом федерального орла, представляя себе, осмелюсь предположить, что перья на его груди даруют им мягкость и уют пуховой подушки. Но и в наилучшем расположении духа орлу не свойственна мягкость, и рано или поздно – чаще рано – орел склонен выбрасывать своих птенцов из гнезда когтистой лапой, ударом клюва или порой с раной от острой своей стрелы.
Площадка вокруг описанного выше здания, которое мы сразу же можем назвать таможней этого порта, обильно покрыта травой, пробившейся между плит, и видно, что в последние дни никто не приминал травы у оной обители разного рода дел. В определенные месяцы года, однако, бывают утренние часы, когда дела здесь движутся более оживленно. И эти случаи могут напоминать старшему поколению горожан о том периоде, до последней войны с Англией, когда Салем и сам был портом, не презираемым, как сейчас, собственными купцами и судовладельцами, которые позволяют его верфям гнить и рассыпаться, в то время как сами рискуют быть поглощенными, незаметно и бесполезно, могучим потоком коммерции в Нью-Йорке и Бостоне. Порой в такие утра, когда три или четыре корабля могут прибыть одновременно, обычно из Африки или Южной Америки – или же готовиться к отплытию в иные места, – бывает слышен звук быстрых шагов, спускающихся и поднимающихся по гранитным ступеням. Здесь вы можете повстречать – даже прежде, чем его собственная жена, – просоленного морями капитана, только что прибывшего в порт и несущего корабельные бумаги в потертом жестяном ящичке, зажатом под мышкой. Здесь вам встретится его наниматель, веселый, грустный, любезный или угрюмый, в зависимости от того, чем завершились его планы на закончившийся вояж – товарами, которые готовы обратиться в золото, или же мертвым грузом, от которого никто не поспешит его избавить. И здесь же мы увидим зародыш будущего насупленного, потрепанного купца с неопрятной бородой – умного юного клерка, который пробует движение на вкус, как волчонок приучается к крови, и который уже рассылает небольшие грузы на кораблях своего хозяина, хотя ему больше пристало бы отправлять игрушечные кораблики путешествовать по мельничному пруду. Еще одной фигурой на этой сцене предстает и готовый к отплытию моряк, стремящийся получить свидетельство о гражданстве, или же недавно прибывший, бледный и дрожащий, в поисках паспорта для пребывания в больнице. Не стоит забывать и капитанов ржавых крошечных шхун, которые привозят топливо из британских провинций, в грубого вида парусиновых куртках и без малейшей восприимчивости к особенностям янки, привозящих товары, совершенно не имеющие значения для нашей умирающей торговли.
Соберите всех упомянутых индивидуумов вместе, как они порой собираются, добавьте несколько других, чтобы разнообразить группу, и на краткий миг таможня покажется вам оживленным местом. Однако куда чаще, поднимаясь по ее ступеням, вы увидите в летние дни у входа или же в более подходящем помещении, если погода сурова и ветрена, ряд почтенных фигур, сидящих в старомодных креслах, откинутых к стене на задних ножках. Очень часто они спят, но время от времени можно услышать, как они беседуют слабыми голосами, больше похожими на храп, с тем отсутствием энергии, который присущ обитателям богаделен и всем тем людям, существование которых зависит от благотворительности, монополизированного рынка, в общем, чего угодно, только не их собственных усилий. Эти престарелые джентльмены, сидящие, подобно Матфею, у входа в таможню, но вряд ли способные подобно ему стать призванными в сонм апостолов, являются чиновниками таможни.
Далее, по левую руку, когда вы зайдете в парадную дверь, находится некая комната, или кабинет, примерно пятнадцати квадратных футов, с высоким потолком и двумя арочными окнами, предлагающими вид на уже упомянутую погибающую верфь, третье же окно выходит на узкую улочку, заканчивающуюся частью Дерби-стрит. Все три дают возможность взглянуть на лавки бакалейщиков, магазины изготовителей клише и торговцев дешевым готовым платьем, судовых поставщиков, у дверей которых обычно можно заметить смеющихся и сплетничающих морских волков вперемешку с сухопутными крысами, неотличимыми от тех, что водятся и в морском порту Ваппинга. Сам кабинет покрыт паутиной поверх тусклой старой краски, пол его посыпан серым песком – данью моде, которая в иных местах давно уже не используется, и по общему беспорядку легко заключить, что вы находитесь в святилище, куда женский пол с присущими ему волшебными предметами в виде метлы и швабры почти никогда не находит доступа. Что же касается обстановки, там есть плита с широким дымоходом, старый сосновый стол с трехногим табуретом рядом, два или три деревянных стула, ветхих и крайне неустойчивых, и – не стоит забывать о библиотеке – несколько полок, на которых разместились пара десятков томов с постановлениями Конгресса и толстый Свод налогового законодательства. С потолка спускается жестяная трубка, средство голосовой связи с иными частями здания. И здесь же каких-либо шесть месяцев назад то мерил шагами комнату из угла в угол, то сидел на высоком табурете, опираясь локтем на стол и проглядывая колонки утренней газеты, тот, кого вы, любезный читатель, могли бы опознать как человека, который пригласил вас в маленький радушный кабинет, где солнечный свет так приятно мерцает сквозь ветви ивы с западной стороны Старой Усадьбы. Но в данный момент, соберись вы искать его там, вы лишь зря расспрашивали бы о таможеннике-демократе. Метла реформ вымела его из кабинета, и более достойный преемник теперь гордится его должностью и получает его жалованье.
Этот древний город Салем – моя родина, хоть я провел вне его немалую часть моего детства и зрелых лет, – обладает или обладал моей привязанностью с силой, которой я никогда не осознавал в те времена, когда действительно обитал здесь. И в самом деле, стоит учесть физический аспект этого места, его неизменно плоский ландшафт, покрытый преимущественно деревянными зданиями, немногие из которых способны претендовать на архитектурную красоту, – это редкость, в которой нет ни колорита, ни оригинальности, лишь смирение; стоит взглянуть на длинные унылые улицы, тянущиеся с утомительной неизменностью по всей длине полуострова, от Висельного холма и Новой Гвинеи с одной стороны и до вида на богадельню с другой, – таковы черты моего родного города, и с тем же успехом можно питать сентиментальную привязанность к разломанной шахматной доске. И все же, хоть счастлив я был лишь в иных местах, я испытываю к Старому Салему чувство, которое, за неимением лучшего слова, позволю назвать привязанностью. Вполне возможно, что этой сентиментальностью я обязан глубоким и старым корням, которыми моя семья держалась за эту землю. Уже почти два с четвертью века прошло с тех пор, как урожденный британец, первый эмигрант с моей фамилией, появился среди дикой природы и леса – в огороженном поселении, которое с тех пор стало городом. Здесь рождались и умирали его потомки, их прах смешивался с местной землей, частично переходя и в ту схожую с ними смертную оболочку, в которой я уже довольно давно хожу по улицам города. Следовательно, отчасти моя привязанность, о которой я говорил, не более чем чувственная симпатия праха к праху. Мало кто из моих соотечественников знает, что это такое, к тому же, поскольку частый прилив свежей крови полезен роду, подобное знание не входит в число желанных.
Но сентиментальность является также и моральным качеством. Фигура первого предка, вошедшего в семейные традиции с туманным и сумрачным величием, присутствовала в моем детском воображении, сколько я себя помню. И до сих пор она преследует меня, вызывает странную тоску по родному прошлому, которую я едва ли испытываю к современному городу. Похоже, сильнейшая тяга к обитанию здесь принадлежит этому мрачному предшественнику, бородатому, одетому в черный плащ и островерхую шляпу, который появился так давно, что шествовал, со своей Библией и мечом, по еще не истоптанной улице к величественному порту и был значимой фигурой, мужем войны и мира. Сам я, чье имя не на слуху и чье лицо мало кому знакомо, обладаю ею в куда меньшей мере. Он был солдатом, законодателем, судьей, он правил местной Церковью, имел все черты пуританина, как добрые, так и злые. Он был рьяным гонителем, о чем свидетельствуют квакеры, поминая его в своих историях в связи с проявленной им крайней жестокостью по отношению к женщине из их секты. Истории о страхе живут дольше любых воспоминаний о его благих делах, которых было не так уж мало. Его сын также унаследовал фанатичный характер и настолько посвятил себя истреблению ведьм, что можно откровенно признать: их кровь запятнала его. Запятнала настолько, что его сухие старые кости на кладбище Чартер-стрит должны до сих пор хранить ее след, если только не рассыпались в пыль, и я не знаю, раскаялись ли мои предшественники, решились ли просить Небо простить их жестокость или же они теперь стонут под бременем последствий по иную сторону бытия. Так или иначе, я, ныне писатель, в качестве их представителя принимаю на себя всю вину и молюсь, чтобы любое заслуженное ими проклятие – насколько я слышал и насколько темно и беспросветно было состояние нашей семьи в течение многих лет, оно действительно могло существовать – отныне и впредь было снято.
Сомнительно, однако, что любой из тех упрямых и хмурых пуритан считал бы достаточной расплатой за свои грехи то, что много лет спустя старый ствол родового древа, покрытый толстым слоем почтенного мха, закончится ветвью такого охламона, как я. Ни одна милая моему сердцу цель не была бы признана ими достойной, любой мой успех – если жизнь мою, помимо домашних дел, когда-либо озарял успех – они посчитали бы безделицей, если не полным позором. «Кто он такой?» – бормочет один серый призрак моего предка другому. «Писака выдуманных книг! Что это за дело всей жизни – чем он может прославить Бога или послужить человечеству его дней и его поколения? О, этот выродок мог с тем же успехом стать уличным скрипачом!» Вот какие комплименты доносятся до меня от моих прадедов через залив Времени, и все же, как бы они на меня ни злились, сильные стороны их натур плотно вплелись в мою.
Глубоко укоренившись стараниями упомянутых ревностных и энергичных мужчин еще в годы младенчества и детства этого города, семья с тех пор и проживала здесь; ни разу, насколько мне известно, ни один ее отпрыск не приносил позора. С другой стороны, редко, или же никогда, спустя первые два поколения, никто не отличился запоминающимися делами и едва ли был замечен обществом. Со временем члены моего рода почти скрылись из виду, как старые дома на местных улочках утопают почти до середины стен в просевшей от времени почве. От отца к сыну более сотни лет все они бороздили моря; седовласый капитан присутствовал в каждом поколении, и, когда он сходил с квартердека[2] в домашнюю гавань, мальчик четырнадцати лет уже занимал наследуемое место перед мачтой, встречая с открытым лицом ветер и соленые брызги, которые хлестали еще его дедов и прадедов. Мальчик с течением времени переходил с носового кубрика в кают-компанию, проводил в ней бурную зрелость и возвращался из путешествий по миру, чтобы состариться, умереть и лечь в родную землю. Такая долгая связь семьи с одной точкой, с местом рождения и погребения, создает родство между человеческим существом и местностью, совершенно не подвластное никаким искушениям судьбы и моральным требованиям окружения. Это не любовь, это инстинкт. Новый житель (тот, кто либо сам приехал из чужой земли, либо же приехали его отец или дед) не имеет права называться салемцем, он не обладает особенностью устрицы – тенденцией, по которой старый колонист, поверх которого нарастает третье поколение, цепляется за ту же точку, к которой крепились его последовательные предки. Не важно, что место это не приносит ему радости, что он устал от старых деревянных домов, от грязи и пыли, от мертвого пейзажа и мертвых чувств, от пронзительного восточного ветра и еще более холодной атмосферы в обществе, – все это, как и иные возможные недостатки, которые можно увидеть или представить, ничто по сравнению с его назначением. Заклятие живет, и мощь его не могла бы стать сильнее, даже будь родная земля истинным раем на земле. Так и в моем случае. Я чувствовал, что судьбой мне назначено всегда жить в Салеме, где сплетение черт внешности и характера, которые все это время были здесь знакомы и даже в детстве были во мне заметны и узнаваемы, поскольку, когда один представитель семьи ложился в могилу, второй занимал его место и шагал по главной улице. И все же именно это доказательство связи, уже нездоровой, пора пресечь. Человеческая природа не может процветать подобно картофелю, если ее сажать и пересаживать поколение за поколением в одну и ту же истощенную почву. Мои дети родились в иных местах и, пока их состояние под моим контролем, пустят корни в более подходящую землю.
На выходе из Старой Усадьбы именно эта странная, меланхоличная, безрадостная привязанность к родному городу побудила меня занять должность в кирпичной твердыне Дяди Сэма, в то время как я мог, и это было бы лучше, отправиться в иное место. Рок тяготел надо мной, и не раз, не два я отправлялся прочь, как мне казалось, навсегда, и все же возвращался, как неразменный пенни, или так, словно Салем был для меня неизбежным центром вселенной. Итак, однажды утром я поднялся по пролету гранитных ступеней, с президентским направлением в кармане, и был представлен собранию джентльменов, которые должны были помочь мне нести мое тяжкое бремя главного чиновника таможни.
Я изрядно сомневался – точнее, я вообще не сомневался – в существовании в Соединенных Штатах должностного лица, в гражданской или военной их линии, которому досталась бы судьба отдавать указания настолько патриархальному собранию ветеранов. Стоило мне взглянуть на них, и я понял, где обитает Старейший Житель. Вплоть до двадцати лет до начала этой эпохи независимая должность коллектора хранила салемскую таможню от водоворота политических перемен, которые зачастую делают подобные должности слишком хрупкими. Солдат – самый выдающийся солдат Новой Англии – крепко стоял на пьедестале своей доблестной службы и, сам находясь в безопасности благодаря мудрой либеральности сменяющихся за время его службы правительств, смог защитить и своих подчиненных во многие часы опасностей и потрясений. Генерал Миллер был радикально консервативен, ничто не могло повлиять на него и смягчить его привязанность к знакомым лицам, и слишком сложно давалось ему решение о смене или замене, даже когда оно могло принести безусловное улучшение. Таким образом, когда я стал во главе своего департамента, я не встретил никого, кроме стариков. Все они были древними морскими капитанами. Большинство из них, побывав в штормах многих морей, упрямо выстояв перед всеми штормами судьбы, наконец отошли в эту тихую гавань, где почти ничто не беспокоило их, помимо периодических ужасов в виде выборов президента, и обрели новый жизненный срок. Ничуть не более крепкие, чем их сородичи того же возраста и здоровья, они, очевидно, обладали неким талисманом, способным удерживать смерть на дальних подступах. Двое или трое из них, как меня уверяли, страдали подагрой и ревматизмом, почти приковавшими их к кровати, и даже не помышляли о том, чтобы появиться в таможне бльшую часть года. Однако стоило вялой зиме отступить, как они выползали под теплое солнце мая или июня, неторопливо занимались тем, что считали своими обязанностями, и, по указке собственной лени или совести, вновь отправлялись в постели. И я должен признать свою вину в том, что сократил официальное дыхание не одному из этих почтенных слуг республики. Им было позволено, и мною утверждено, отдохнуть от ревностного труда, и вскоре после этого – словно сам принцип жизни их заключался в служении стране, во что я вполне верю, – они покидали не только службу, но и этот бренный мир. Благочестивым утешением мне служило то, что посредством моего вмешательства они получили возможность раскаяться в том зле и коррупции, соблазну которых, к слову, подвластны все чиновники таможни. Ни парадный, ни черный входы таможни не открываются на дорогу в Рай.
Бльшая часть моих подчиненных относилась к вигам[3]. Для их достойного братства назначение нового таможенного досмотрщика – не политика, и пусть он, в моем лице, был искренним демократом, он не принял и не посвятил свой офис никаким политическим службам. Случись все иначе – будь на эту влиятельную должность назначен активный политик и учитывая, как легко было справиться с досмотрщиком вигов, чье слабое здоровье не позволяло лично присутствовать в кабинете, – едва ли кто-то из старой их гвардии все еще дышал бы кабинетным воздухом спустя месяц после того, как по ступеням таможни поднялся бы карающий ангел. Согласно принятому в таких материях кодексу, для политика приведение всех белоголовых к гильотине считалось не чем иным, как прямым его долгом. И совершенно очевидно, старые друзья опасались, что та же участь постигнет их от моей руки. Мне было больно и в то же время забавно наблюдать ужас, с которым приняли мое появление, видеть, как покрытые щетиной щеки, избитые полувеком штормов, становятся пепельно-бледными при виде столь безобидного человека, как я; замечать, как ко мне обращается то один, то другой – и дрожь звучит в голосе, что в давно минувшие дни имел обыкновение хрипло греметь в рупор с силой, способной посрамить самого Борея. Они знали, эти замечательные старики, что, по всем принятым правилам – и, как считали некоторые из них, по причине их собственной бесполезности для дел, – всем им пора уступить место более молодым, более ортодоксальным в политике, более подходящим для службы нашему общему Дяде. Я тоже это знал, но не мог убедить свое сердце повиноваться этому разумному знанию. Внося свой дополнительный вклад в заслуженную мною дискредитацию и отягощая бремя на моей официальной совести, они продолжали в течение моего пребывания в должности медленно таскаться по верфям и ковылять то вверх, то вниз по лестнице таможни. Немалую часть времени они проводили во сне, в своих привычных углах, однако пару раз в течение дня просыпались, чтобы надоедать друг другу стотысячным повторением старых морских историй и заплесневелых анекдотов, которые в их компании давно стали чем-то наподобие пароля и отзыва.
Вскоре, насколько я понял, им стало понятно, что личность нового досмотрщика не несет им особой угрозы. Потому с легким сердцем и счастливым осознанием того, что они сохранили должность – ради самих себя, по крайней мере, если не ради службы нашему любимому отечеству, – эти старые добрые джентльмены взялись за разнообразные формальности чиновничьей работы. Дальнозорко щуря глаза под очками, они заглядывали в трюмы судов. Поднимали огромный шум из-за мелочей и при этом порой поражали тем, как эти мелочи позволяли гораздо большему просочиться сквозь пальцы. Всякий раз, когда происходила подобная потеря – к примеру, огромная партия ценного товара контрабандой сгружалась на берег среди белого дня, порой под самым их ничего не учуявшим носом, – они проявляли невероятную бдительность и рвение, закрывая, запирая и опечатывая бечевой и воском все переходы провинившегося судна. Вместо взыскания за их предыдущий просчет дело начинало принимать противоположный оборот: требовалось вознаграждение за похвальную бдительность после того, как произошло преступление, и благодарное признание за их активность, которая уже совершенно ничего не могла исправить.
Если с людьми смириться не сложнее обычного, я проявляю свою глупую привычку доброго к ним отношения. Лучшая часть характеров моих компаньонов, если таковая имелась, обычно замечалась мной прежде всего, и в соответствии с ней строилось мое к ним отношение. В характерах большинства этих старых таможенных чиновников хорошие качества встречались, и, поскольку в отношении к ним я занял отеческую позицию защитника, что было прекрсной основой для дружеских связей, вскоре я понял, что они мне нравятся. Было приятно в летние дни – когда яростная жара, почти что плавящая остатки рода человеческого, могла немного разогреть престарелую отопительную систему их тел, – слушать, как они переговариваются у черного входа, откинув спинки стульев к стене, как обычно; как тают ледники шуток прошлого поколения и оживают булькающим смехом на их губах. Внешне радость престарелых людей весьма сходна с весельем детей и имеет мало общего с интеллектом и глубоким чувством юмора: она как светлый блик на поверхности, с той лишь разницей, что поверхность та может быть и зеленым побегом, и старым замшелым стволом. И в одном случае этот свет – истинно солнечный, в другом же он больше похож на фосфоресцирующее свечение гнилушки. Однако было бы нечестно с моей стороны представлять читателю моих прекрасных старых друзей лишь слабоумными стариканами. Прежде всего не все мои помощники были в годах, встречались среди них и мужчины в расцвете сил, одаренные и энергичные, во всем превосходящие медлительный и зависимый стиль жизни, который предопределили им злые звезды. Более того, и под почтенными сединами порой обнаруживался отлично работающий разум. Но при всем уважении к большинству моего корпуса ветеранов я не погрешу против истины, охарактеризовав их в целом как сборище утомительных стариков, которые не вынесли из своего богатого жизненного опыта ничего, что было бы достойно сохранения. Они, казалось, развеяли по ветру все золотые зерна практической мудрости, которые у них было столько возможности собрать, и с превеликой тщательностью собрали в закрома своей памяти только полову. С куда большим интересом и горячностью они обсуждали свои утренние завтраки, равно как вчерашние, сегодняшние, завтрашние обеды, чем кораблекрушение сорока-или пятидесятилетней давности, или те чудеса света, которые наблюдали своими молодыми глазами.
Отец всея таможни – патриарх не только небольшой команды чиновников, но и, осмелюсь сказать, уважаемого общества таможенных инспекторов всех Соединенных Штатов, – был вечным Инспектором. Его можно было смело определить как законного сына системы налогообложения, дистиллированного, прирожденного чиновника; его отец, полковник Революции и бывший инспектор порта, создал для него этот кабинет и назначил сына на должность в такие давние времена, что мало кто из живущих способен их припомнить. Этот инспектор, когда я впервые с ним познакомился, уже пересек рубеж восьмидесятилетия и был одним из ярчайших представителей вечнозеленых столпов, которые только можно повстречать на жизненном пути. С его пунцовыми щеками, коренастой фигурой в ладно скроенном синем камзоле с ярко начищенными пуговицами, с быстрым шагом, крепким и бодрым духом, он казался – хоть и не молодым, конечно, – новым замыслом матери Природы, облеченным в форму человека, которого не смеют коснуться ни возраст, ни болезни. Его голос и смех, эхо которого постоянно гремело по всему зданию таможни, не обладали ни намеком на дрожь и квохтание, присущие старикам; они вылетали из его легких, как утренний клич петуха, как призыв горна. Рассматривая его как обычное животное – а рассмотреть в нем нечто большее было сложно, – можно было восхититься объектом, полноценностью его здоровья, цельностью рабочей системы, его способностью в своем преклонном возрасте добиваться всех или почти всех удовольствий, к которым он стремился и о которых задумывался. Беспечная безопасность его жизни в таможне, при регулярном доходе, с незначительными и нечастыми опасениями отставки, без сомнения, внесла свой вклад в отсутствие оставленного временем следа. Изначальные и более сильные причины, однако, заключались в редком совершенстве его животной природы, умеренной пропорции интеллекта и крайне пустячной доле моральных и духовных ингредиентов. Эти, последние, качества поистине присутствовали в столь малой мере, что их едва хватало для удержания старого джентльмена от прогулок на четырех конечностях вместо двух. Он не обладал ни силой мысли, ни глубиной чувства, не имел беспокоящих его уязвимостей: ничего, выражаясь вкратце, помимо нескольких распространенных инстинктов, которые, в сочетании с бодростью характера, проистекающей из физического благополучия, отлично справлялись с работой по замене его несуществующего сердца. Он был мужем трех жен, давно уже почивших, отцом двадцати детей, большинство которых в разные годы, от младенчества до зрелости, также упокоились с миром. В этом кто-то мог бы познать печаль, достаточную, чтобы затмить самый солнечный характер неизбывной вуалью траура. Но только не старый Инспектор. Одного краткого вздоха хватало ему, чтобы избыть бремя тяжелых воспоминаний. И в следующий миг он уже был готов к новым свершениям, как любой непосредственный подросток: готов куда вернее, чем младший клерк таможни, который в свои девятнадцать казался куда старше и мрачнее упомянутого.
Я наблюдал за этим патриархальным персонажем, я изучал его с любопытством, пожалуй, большим, чем вызывал у меня любой другой представитель рода людского, попавший в оном месте в поле моего зрения. Он был поистине редким феноменом: буквально идеальным, с одной точки зрения, и неимоверно поверхностным, бредовым, непостижимым и ничтожным – с любой другой. Я пришел к выводу, что у него не было ни души, ни сердца, ни разума, ничего, как я уже говорил, помимо инстинктов; и все же, те немногие материалы, составлявшие его характер, были скомпонованы так искусно, что не создавали впечатления болезненной неполноценности, наоборот, я, со своей стороны, был им доволен. Было бы сложно – да так оно и было – представить себе его посмертие, настолько земным и чувственным он казался. Но наверняка его существование здесь, даже с признанием, что он будет уничтожен с последним своим вздохом, не было жестоким даром; обладая моральной ответственностью не большей, нежели дикие твари, он мог наслаждаться жизнью куда полнее животных, благословенных их же иммунитетом к дряхлению и сумеречности возраста.
Одним из пунктов, в которых он обладал безграничным преимуществом перед нашими четвероногими друзьями, была его способность вспомнить все вкусные обеды, случившиеся в его жизни, ведь огромную часть его счастья в жизни составляла именно еда. Его гурманство было весьма приятно, а его рассказы о жареном мясе возбуждали аппетит не хуже пикулей или устриц. Лучшими качествами он не обладал, следовательно, не жертвовал и не развеивал никаких душевных фондов, посвящая все свои силы и мастерство описаниям радостей и пользы для своей утробы, а потому мне всегда было приятно слышать, как он воспевает рыбу, птицу и мясо с бойни, а также самые лучшие методы их приготовления. Его воспоминания о доброй трапезе, какой бы давней ни была дата банкета, казалось, буквально вызывают ароматы свинины и индейки под самый нос слушателя. Вкусы на его небе оставались не менее шестидесяти, а то и семидесяти лет и сохраняли свежесть не хуже бараньей котлеты, которую он проглотил сегодня на завтрак. Я слышал, как он чмокает губами за обедами, каждый гость которых, кроме его самого, давно уж сам стал обедом могильных червей. Поразительно было наблюдать, как призраки давно прошедших трапез последовательно возникают перед ним – не из злобы и жажды мести, а в благодарность за прошлую его признательность, отказывающуюся расставаться с бесконечным повторением удовольствий, одновременно смутных и ощутимых. Нежнейший ростбиф, телячья лопатка, свиные ребрышки, выдающийся цыпленок или в высшей степени достойная похвалы индейка, попавшие в его чрево еще в дни жизни старейшины Адамса, вспоминались им ярко, в то время как весь последовательный опыт нашего рода и все события, что озаряли и омрачали его собственную карьеру, пролетали мимо него, оставляя следов не больше, чем легкий утренний бриз. Главным трагическим событием в жизни почтенного старика, насколько я мог судить, была его несчастливая встреча с неким гусем, жившим и погибшим примерно от двадцати до сорока лет назад: гусем, который был весьма многообещающ, но на столе оказался столь неисправимо жестким, что разделочный нож не справился с его остовом, и разделать птицу смогли лишь топор и ручная пила.
Но время закончить этот набросок, которому я, однако, с радостью отвел бы больше места, поскольку из всех, кого я когда-либо знал, этот человек лучше всех отражал суть работника таможни. Большинство иных по причинам, на которые у меня может не остаться места намекать, страдали определенными моральными недостатками от того же стиля жизни. Старый Инспектор был на это неспособен и, продолжай он свою работу до конца времен, остался бы столь же хорош, как тогда, и садился бы за обеденный стол с тем же прекрасным аппетитом.
Существовал еще один персонаж, без которого моя портретная галерея таможни была бы странно неполной, но слишком малое количество возможности наблюдений позволяет мне создать лишь бледный его набросок. Это наш Сборщик, наш бравый старый Генерал, который после блестящей военной службы, вследствие которой правил дикой Западной территорией, прибыл сюда двадцать лет назад, чтоб встретить закат своей богатой событиями почетной жизни.
Бравый солдат уже отсчитал около семи десятков лет и шествовал остаток жизненного пути отягощенный болезнями, которых даже военные марши его вдохновенных воспоминаний не имели возможности облегчить. Шаг того, кто привык возглавлять колонны, был испорчен параличом. Лишь при помощи слуги, тяжело опираясь рукой на железную балюстраду, он мог медленно и болезненно подняться по ступеням таможни, а затем проделать утомительный путь по полу, чтобы занять свое личное кресло у камина. Там он обычно и сидел, глядя с тусклым спокойствием духа на фигуры входящих и уходящих, слушал шорох бумаг, административную брань, обсуждение дел, обычную кабинетную болтовню; все обстоятельства и звуки, похоже, не могли повлиять на органы его чувств и едва ли достигали внутренней сферы сознания. Выражение лица его в этом спокойствии оставалось мягким и добродушным. Когда кто-то искал его внимания, вежливость и интерес озаряли его черты, доказывая, что в нем сохранился свет, и лишь внешняя оболочка лампы его разума мешает распространению этих лучей. Чем ближе вы проникали к субстанции его разума, тем ярче вам это казалось. Когда его больше не призывали к разговору и слушанию – каждое из этих действий стоило ему значительных усилий, – его лицо быстро возвращалось к прежнему, отнюдь не безрадостному спокойствию. Выдержать это зрелище было несложно, в нем не проглядывало слабоумие, свойственное ветхому возрасту. Каркас его натуры, изначально сильный и массивный, еще не превратился в руины.
Однако пронаблюдать и определить его характер, при наличии подобных недостатков, было задачей столь же сложной, как исследовать и воссоздать в воображении старый форт, ту же Тикондерогу, глядя на ее серые руины. Здесь и там, возможно, стены сохранились почти что в целости, но в иных местах они превратились в бесформенную кучу камней, рухнув под собственным весом, и за долгие годы мира и забытья густо поросли травой и сорняками.
И все же, глядя на старого воина с восхищением – при всей краткости нашего с ним общения, чувства мои к нему, как всех двуногих и четвероногих, что знали его, вполне могли характеризоваться именно этим словом, – я мог различить основные черты его портрета. Он был отмечен благородными и героическими качествами, которые проявлялись не по воле случая, а по праву, именно благодаря им он заслужил выдающееся имя. Дух его никогда, насколько я понимаю, не пребывал в подавленном состоянии, но, должно быть, в любой период его жизни требовался импульс, чтобы привести этот дух в движение, однако стоило ему вскинуться, увидеть преграды на пути и желанную цель в конце, на остановки или отступление он не шел – это ему не было свойственно. Жар, в прежние времена наполнявший его натуру и до сих пор не угасший, относился не к тому типу, что пляшет, мерцает и плюется искрами; то был глубокий алый свет раскаленного в горне металла. Сила, надежность, цельность – таково было выражение его покоя, несмотря на разрушения, несвоевременно овладевавшие им в тот период, о котором я говорю. Но даже тогда я мог представить, что, стоит какому-то побуждению проникнуть глубоко в его сознание призывом трубы, достаточно громким, чтобы пробудить в нем все еще не угасшие, а лишь уснувшие силы, и он еще будет способен отбросить свою немощь, как больной отбрасывает халат, сменить посох старости на боевой меч и вновь превратиться в воина. И, при всей напряженности упомянутого момента, выражение его лица останется столь же спокойным. Впрочем, портрет его не был бы роскошен, не вызывал бы ни восхищения, ни желания заполучить его в галерею. То, что я видел в нем – так же ясно, как несокрушимые крепостные стены старой Тикондероги, уже упоминавшиеся в качестве подходящего сравнения, – было чертами упрямого и тяжелого долготерпения, которое вполне могло накопиться во времена упорства в его прежние дни; цельности, которая, как и большинство иных его способностей, лежала неподъемным грузом и была столь же нековкой и громоздкой, как тонна железной руды. А также милосердия, которое, при всей ярости, с которой он вел штыковую атаку при Чиппева или форте Эри, я воспринимаю искренним, ведь этим штампом отмечен почти любой воинственный филантроп того века. Он убивал собственными руками, насколько я знаю, – и наверняка люди падали, как трава под свистящей косой, прежде чем его дух распрощался с торжествующей силой, – но при этом в сердце его никогда не было жестокости к миру, жестокости большей, чем та, с которой мы смахиваем надоедливого мотылька. Я не знал человека, чья внутренняя доброта вызвала бы во мне большую внутреннюю расположенность.
Многие особенности, даже и те, что были бы в немалой степени важны для придания наброску портретного сходства, наверное, исчезли или поблекли до моего знакомства с Генералом. Все привлекательные черты отличаются недолговечностью, и природа не склонна украшать человеческие руины цветами новой красоты, которые пускают корни в питательный грунт трещин и разломов человеческой натуры, как склонна увивать цветами стены разрушенного форта Тикондероги. И все же, при всем почтении к грации и красоте, есть те черты, что не подвластны тлену. Луч веселья, временами пробивающийся сквозь плотную вуаль старения, чтобы озарить прелестью наши лица. Врожденная утонченность, столь редко видимая в мужественных людях после поры их детства и ранней юности, проглядывала в том, как генерал восхищался красотой и изяществом цветов. От старого солдата можно было бы ожидать восхищения разве что кровавым лавровым венком на челе, но он был тем, кто отличался почти девичьей влюбленностью в цветущее племя.
Там, у камина, бравый старый Генерал обычно и восседал, в то время как Досмотрщик – хоть и избегая при всякой возможности тяжелой задачи по вовлечению его в разговор, – любил стоять в отдалении и наблюдать за его тихим, почти сонным ликом. Он, казалось, так далек от нас, хоть мы и проходили совсем рядом с его креслом; недостижим, хотя можно было протянуть руку и коснуться его. Возможно, он в своих мыслях жил более реальной жизнью, чем та, что протекала в столь неподходящем ему окружении таможенного кабинета. Прохождение парадов, шум брани, переливы старой героической музыки, услышанной тридцать лет назад, – эти сцены и звуки, возможно, до сих пор были живы в его разуме. А в это время купцы и капитаны, юные клерки и потрепанные матросы входили и выходили, суматоха коммерции и таможенной жизни бурлила и бормотала вокруг него, но ни люди, ни их дела не имели, казалось, ни малейшего отношения к старому Генералу. Он был неуместен так же, как старый меч – уже проржавевший, но когда-то блиставший на поле боя и до сих пор сохранивший яркий свет на лезвии, – среди чернильниц, подшивок бумаг и линеек из красного дерева, что царили на столе заместителя Сборщика.
И было одно, что изрядно помогло мне восстановить и воссоздать стойкого солдата с ниагарского фронтира – человека простого и искреннего. То было воспоминание о его знаменитых словах «Я попытаюсь, сэр», сказанных на грани отчаянного и героического предприятия, пронизанных душой и духом новоанглийской дерзости, способной преодолеть все преграды и добиться всего. Если бы в нашей стране доблесть вознаграждалась геральдическими отличиями, эта фраза– которую, казалось, так просто произнести, но на которую, перед лицом задачи настолько опасной и почетной, решился лишь он, – стала бы лучшим и самым подходящим девизом для щита и герба Генерала. Моральному и интеллектуальному здоровью человека крайне полезно привыкать к компании личностей, крайне на него не похожих, мало обеспокоенных его стремлениями, тех, чью сферу деятельности и способности он может оценить, лишь преодолев грани своих привычек. Различные случаи в моей жизни зачастую одаривали меня подобным преимуществом, но никогда еще более полно и разнообразно, как во времена моего пребывания на должности.
Был там, к примеру, один человек, наблюдение за характером которого дало мне новое понимание идеи таланта. Его одаренность была сходна с качествами тех, кто занимался делами. Он был быстр, точен, обладал ясным разумом и острым взглядом, который видел насквозь все затруднения и одновременно все способы заставить их испариться как по мановению волшебной палочки. Выросший в таможне, он в совершенстве овладел тонкостями этой деятельности, и многие сложности ведения дел, изматывающие чужака, для него самого являлись привычными проявлениями понятной системы. Я рассматривал его как идеального представителя его класса. Он был поистине олицетворением самой таможни, или, в любом случае, ходовой пружиной, которая приводила в движение все вращающиеся вразнобой шестеренки. Для учреждения, подобного нашему, куда чиновники назначаются служить собственной выгоде и удобству и редко с учетом того, подходят ли они для работы на должности, им не остается ничего другого, кроме как искать в других те умения, которых сами они лишены. Таким образом, с той же неотвратимой силой, с которой магнит притягивает стальную стружку, наш человек дела притягивал к себе все трудности, с которыми сталкивались остальные. С легкой снисходительностью и определенной терпимостью к нашей глупости, которую, согласно его складу ума, он наверняка считал почти преступлением, он легким прикосновением пальца делал непостижимое ясным, как солнечный день. Купцы ценили его не меньше, чем мы, его посвященные друзья. Честность его была идеальной, она для него являлась скорее законом природы, нежели выбором или принципом; да и невозможно было обладателю настолько выдающегося интеллекта не обладать предельной точностью и добросовестностью в исполнении своих обязанностей. Пятно на совести, касающееся чего угодно в сфере его должности, беспокоило бы подобного человека точно так же, если не в большей степени, как беспокоила бы ошибка в балансе счета или чернильная клякса на чистой странице учетной книги. Здесь, к слову, – что можно назвать редкостью в моей жизни, – я познакомился с человеком, наиболее соответствующим занимаемому положению.
Таковыми являлись и некоторые из тех, с кем я оказался связан. Я благосклонно принял из рук провидения то, что был назначен на должность столь чуждую всем моим прошлым привычкам, и со всей серьезностью решил извлечь из ситуации всю возможную пользу. После моего товарищества с изнурительным трудом и невыполнимыми планами в компании мечтательных собратьев с фермы Брука, после трех лет жизни под влиянием интеллекта Эмерсона; после тех диких свободных дней в Ассабете, где я предавался фантастическим дискуссиям, которые мы вели у костра из еловых ветвей с Эллери Чаннингом; после разговоров с Торо о соснах и индейских реликвиях в его отшельническом приюте в Уолдене; после растущей прихотливости вкуса, рожденного симпатией к классической утонченности культуры Хилларда; после того, как у очага Лонгфэллоу я проникся поэтическими сантиментами, – то было время, и длительное, когда я должен был упражнять другие свои способности, питаться пищей, к которой я до тех пор не испытывал ни малейшего аппетита. Даже старый Инспектор был желанен в качестве смены диеты – для человека, который знал Олкотта[4]. Я смотрел на это как на своего рода доказательство, что натура моя от природы хорошо сбалансирована и ей хватает всех жизненно важных частей, раз уж, с подобными воспоминаниями о подобных друзьях, я могу сразу же смешаться с людьми совершенно противоположных качеств и никогда не роптать на перемену.
Литература, с ее влиянием и темами, в те времена почти не удостаивалась моего внимания. В тот период я не увлекался книгами, они существовали отдельно от меня. Природа – помимо сугубо человеческой природы, – природа, что разворачивалась в небе и на земле, была в определенном смысле скрыта от меня; и все радости воображения, связанные с духовными аспектами, проходили мимо моего разума. Одаренность, искусство если и не покинули меня, то застыли внутри без признаков жизни. Было нечто печальное, нечто невыразимо жуткое во всем этом, не будь у меня осознания, что я могу в любой момент вынуть из прошлого все, что было мне дорого. Возможно, истиной было бы утверждение, что подобную жизнь нельзя без ущерба жить слишком долго, ведь иначе она могла бы навсегда изменить мою суть, не меняя формы, отпущенной мне в этой жизни. Но я никогда не считал тот период не чем иным, нежели временным жизненным этапом. Всегда присутствовал провидческий инстинкт, тихо шепчущий мне на ухо, что вскоре, какими бы ни были изменения, они пойдут мне на пользу.
А в то время я являлся таможенным инспектором по доходам, и, насколько я понимал, не худшим, чем требовалось. Человек, наделенный мышлением, воображением и восприимчивостью (пусть даже в мере, десятикратно превосходящей пропорции обычного инспектора), мог в любое время стать человеком дела, будь в нем желание оным делом заняться. Мои собратья чиновники, как и купцы с морскими капитанами, с которыми сводили меня должностные обязанности, видели меня именно в этом свете и наверняка не представляли меня иным. Никто из них, смею предположить, никогда не читал и страницы моих произведений и ничуть не изменил бы отношения, прочти их все; не изменилось бы ничто, будь те же неприбыльные страницы написаны пером Бернса или Чосера, каждый из которых был в свое время работником таможни, как и я. То был хороший урок – хотя зачастую и нелегкий – для человека, мечтавшего о литературной славе, желавшего добиться места среди мировых знаменитостей своими творениями, выйти из узкого круга, в котором его заявления учитывались, и обнаружить, насколько на самом деле не хватает ему значимости вне этого круга, как все его достижения и все, на что он был нацелен. Не знаю, действительно ли мне очень был нужен такой урок, одновременно предупреждающий и укоряющий, но, так или иначе, я хорошо его выучил: усвоенная истина, пустившая корни в мое сознание, пришла болезненно, но не вызывала желания отбросить ее с глаз долой. Что же касается бесед о литературе, морской офицер – отличный парень, который пришел в кабинет со мной и вышел лишь немногим позже, – зачастую вовлекал меня в дискуссию по той или иной своей любимой теме, от Наполеона до Шекспира. Младший помощник инспектора, слишком уж юный джентльмен, судя по шепоткам, время от времени покрывал листок для официальных писем Дяде Сэму тем, что (с расстояния в несколько ярдов) выглядело весьма похоже на стихи – тоже говорил о книгах как о материях, в которых я вполне могу оказаться сведущ. Тем и исчерпывалось все мое взаимодействие с письмом, и для моих нужд того было вполне достаточно.
Я больше не беспокоился и не стремился к тому, что мое имя должно блистать на титульных страницах по всему миру, я улыбался мысли о том, что ныне оно отправляется в совсем иное путешествие. Таможенная печать с моим именем, благодаря трафарету и черной краске, оставалась на бумажных пакетах, на корзинах с аннато, коробках сигар и всевозможных тюках с товарами, подлежащими уплате пошлин, подтверждала, что таможенная пошлина за них уплачена и добросовестно прошла мой кабинет. Знание о моем существовании, насколько имя отражало его, неслось на этой странной колеснице славы туда, где никогда не бывало раньше и, надеюсь, более не побывает.
Но прошлое не было мертво. Изредка мысли, которые казались столь живыми и деятельными, но отошедшие тихо отдохнуть, оживали снова. Одним из самых примечательных случаев, когда привычка давно минувших дней проснулась во мне, был тот, что привел, по закону литературной пристойности, к предложению публике того самого очерка, который я сейчас пишу.
На втором этаже таможни находится большая комната, в которой кирпичная кладка и голые стропила так и не были покрыты обшивкой и штукатуркой. Здание – изначально спроектированное с расчетом размера для старого коммерческого развития порта и с мыслью о дальнейшем процветании, которому не суждено было сбыться, – таило в себе куда больше пространства, чем могли вдумчиво использовать его новые обитатели. Этот просторный холл, находившийся, понятно, над кабинетом Коллектора, оставался незавершенным и по сей день и, несмотря на фестоны паутины, свисавшие с потемневших балок, до сих пор, казалось, ждал внимания каменщика и плотника. В одном конце комнаты, в нише, множество бочек было уложено в штабель. В них хранились связки документов. Огромное количество подобного мусора усеивало и пол. Печально было думать о том, сколько дней, и недель, и месяцев, и лет работы было потрачено на эти затхлые листы, которые теперь лишь занимали место и были спрятаны в этом забытом углу, чтобы никогда более не предстать перед людским взором. Однако какие же груды иных рукописей – заполненных не скукой официальных формальностей, но мыслями изощренных разумов, вложенными в них потоками глубинных чувств, – точно так же исчезли в забвении; более того, в свое время не послужили никакой цели, в отличие от громоздящихся здесь бумаг, а что еще печальнее, не принеся своим авторам комфортной жизни, которую обеспечили себе таможенные клерки посредством своих бесполезных каракулей. Впрочем, для местной истории эти материалы не были совсем уж бесполезны. Здесь, без сомнения, таилась статистика былой торговли Салема, мемориалы ее великолепных купцов – старого Короля Дерби, старого Билли Грея, старого Саймона Форрестера и многих других магнатов своего времени, чьи напудренные головы едва успевали упокоиться в могиле, как накопленное богатство начинало таять. Основателей большей части семей, которые ныне составляют аристократию Салема, можно отследить здесь от самого безденежного и скромного начала их пути, в периоды последовавшей Революции и вплоть до того, что их дети считают давно установившимся рангом.
Записей, относящихся к периоду до Революции, не так уж много, более ранние документы и архивы таможни наверняка были увезены в Галифакс, когда все королевские чиновники присоединились к британской армии, удирая из Бостона. Это часто являлось причиной моих сожалений, поскольку, вернувшись назад, даже ко временам протектората, и проследив бумаги, можно было бы найти множество упоминаний о забытых или прославленных людях, старинных досмотрах, которые могли бы доставить мне удовольствие не меньшее, чем я испытывал, подбирая наконечники индейских стрел в поле у Старой Усадьбы.
Однако в один из праздных дождливых дней мне повезло обнаружить находку, представляющую собой некий интерес. Перебирая и раскапывая стопки мусора в углу, разворачивая один документ за другим, читая названия судов, давным-давно ушедших на дно морское или сгнивших у верфей, и имена купцов, о которых никто не слышал на современной Бирже, не вполне различимые теперь даже на их замшелых могильных камнях; проглядывая их с тем же печальным, усталым, почти неохотным интересом, которым мы награждаем трупы давно почившей деятельности (упражняя тем самым свое воображение, неловкое из-за долгого неиспользования, в попытках поднять из этих сухих костей цветущий образ старых городов тех времен, когда Индия была новым регионом и только Салем знал пути туда), я наткнулся на маленький аккуратный сверток древнего пожелтевшего пергамента. Этот конверт хранил дух официального отчета давнего прошлого, когда клерки украшали своими четкими формальными почерками куда более солидные материалы, чем в настоящем. В нем было нечто, что усилило мой инстинктивный интерес и заставило развязать поблекшую красную ленту, которой был перевязан пакет, с ощущением, что я вот-вот открою свету сокровище. Развернув заскорузлый пергамент обертки, я понял, что она состоит из офицерского патента, заверенного подписью и печатью губернатора Ширли и выданного Джонатану Пайну, наделяя того полномочиями таможенного досмотрщика Его Величества в порту Салем, гавани провинции Массачусетс. Я припомнил, что читал (наверное, в «Анналах» Фелта) упоминание о кончине мистера досмотрщика Пью восемьдесят лет назад и в недавней газете статью о том, что во время обновления церкви Святого Петра его останки были выкопаны для перезахоронения. Ничего, если я правильно помню, не осталось от моего респектабельного предшественника, за исключением ветхого скелета, нескольких фрагментов платья и потрясающего парика, сохранившегося вполне удовлетворительно, в отличие от головы, которую он некогда украшал. Но, проглядывая бумаги, конвертом для которых служил пергамент патента, я нашел больше следов мысленной работы мистера Пью и узнал о работе его разума больше, чем сбереглось частей почтенного черепа в остатках напудренного парика.
Если вкратце, это были документы не официального, а личного характера или, по крайней мере, написанные им в меру собственных способностей и желания, судя по всему, собственноручно. Тот факт, что они оказались в груде старого таможенного хлама, я могу объяснить лишь тем, что смерть мистера Пью оказалась внезапной и эти бумаги, которые он, скорее всего, держал в своем рабочем столе, не были известны его наследникам или же имели какое-то отношение к сбору пошлин. Во время перевозки архивов в Галифакс этот пакет, как не имеющий официальной ценности, был оставлен здесь и с тех пор лежал нераспечатанный.
Древний досмотрщик – будучи, полагаю, слегка испорчен малым количеством дел, поступающих в кабинет, – похоже, посвящал некоторую часть свободного времени исследованию местных древностей и другим изысканием схожей природы. Это служило материалом для оживления разума, который иначе давно покрылся бы ржавчиной.
Часть собранных им фактов, к слову, сослужила мне добрую службу в подготовке статьи «ГЛАВНАЯ УЛИЦА», включенной в этот том. Они же, возможно, могут впоследствии послужить цели столь же ценной и быть вложены, насколько позволяют факты, в историю Салема, если только мое почитание родной земли когда-либо подвигнет меня на столь благочестивую задачу. Пока же они отправятся в распоряжение любого джентльмена, достаточно компетентного и желающего избавить меня от упомянутого невыгодного труда. В качестве финального места их расположения я рассматриваю Историческое Общество Эссекса. Однако объект, который более всего привлек мое внимание к загадочному свертку, являлся лоскутом алой ткани, довольно потрепанным и поблекшим. На нем сохранились следы золотой вышивки, которые, однако, так истрепались и вылиняли, что в них почти не осталось намека на былой блеск. Вышивка свидетельствовала, и это сразу становилось заметно, о выдающемся таланте работающего иглой, а стежки (как меня заверили леди, посвященные в тайны подобного) служили доказательством ныне забытого искусства, которое не открыть заново даже в процессе разбора старых нитей. Этот клочок алой ткани, который время, дряхлость и непочтительная моль превратили в самую обычную тряпку, при внимательном рассмотрении повторял форму буквы.
Это была заглавная буква «А». При точном измерении каждая ножка ее в длину составляла ровно три дюйма с четвертью. Предназначалась она, без сомнения, в качестве декоративной детали платья, но как ее носили, какой ранг, честь, достоинство прошлых времен отмечалось ею, было загадкой, разгадку которой (настолько недолговечны причуды моды в нашем мире) я считал безнадежной. И все же она до странного интересовала меня. Я буквально не мог отвести взгляд от старинной алой буквы. Наверняка в ней было некое глубинное значение, более чем достойное интерпретации, которое, как мне казалось, источала сама загадочная буква, тонко воздействуя на мои чувства, но не поддаваясь рассудочному анализу.
Сбитый с толку странными ощущениями и размышляющий в том числе и о том, что буква могла быть одним из украшений, которые использовались белыми людьми для привлечения внимания индейцев, я приложил букву к своей груди. И мне почудилось – читатель может улыбнуться, но не стоит сомневаться в моих словах, – мне почудилось, что я ощущаю нечто не вполне физическое, но на грани того, опаляющий жар, словно буква была не из алой ткани, а из докрасна раскаленного железа. Я содрогнулся и непроизвольно уронил ее.
Поскольку все мое внимание поглотила алая буква, я не обратил внимания на маленький сверток выцветшей бумаги, вокруг которого она была обернута. Открыв его, я с удовольствием обнаружил записанное пером старого досмотрщика довольно полное объяснение всего дела. Там были несколько листов писчей бумаги, покрытых записями с детальным рассказом о некой Эстер Принн, которая была довольно примечательной персоной у наших предков. Расцвет ее жизни пришелся на период между ранними днями Массачусетса и концом семнадцатого столетия. Престарелые господа, жившие во времена мистера досмотрщика Пью и с чьих устных воспоминаний он создал свой рассказ, помнили ее по дням своей юности: помнили очень старой, но не одряхлевшей женщиной, величавой и добропорядочной. Ее привычкой почти что с незапамятных времен были походы по округе в качестве добровольной сиделки. Она приносила людям много добра, в том числе взяла на себя бремя советницы по самым различным вопросам, особенно в делах сердечных. И ее судьба оказалась неизбежной для людей подобных склонностей: у многих, для кого она была добрым ангелом, она обрела благодарное к себе отношение. Другие же, смею представить, видели в ней помеху и назойливую чужачку. Вчитываясь далее в рукопись, я нашел записи о делах и страданиях этой исключительной женщины, о большей части которых читатель узнает из моей истории «Алая буква». Следует постоянно помнить, что основные факты той истории подтверждены и заверены документом мистера Пью. Оригинальные бумаги, вместе с самой алой буквой – наиболее интересной моей реликвией, до сих пор в моем распоряжении и будут свободно предъявлены любому, кто заинтересуется ими и пожелает их увидеть. Но не стоит воспринимать это так, как будто в процессе написания истории, представляя себе мотивы и проявления страсти, повлиявшие на описанных в ней персонажей, я оставался строгим старым инспектором на шести пожелтевших листах. Напротив, я позволил себе до определенной, даже значительной степени, вольные интерпретации, переплетая реальные факты с собственным воображением. Придерживался я лишь аутентичности внешних абрисов.
Этот инцидент вернул меня до некоторой степени на старый путь. Похоже было, что я обнаружил фундамент новой истории. Что впечатлило меня так, словно сам древний досмотрщик, одетый по моде, ушедшей уже век назад, в своем бессмертном парике, похороненном с ним, но не истлевшем в могиле, предложил мне договор в той пустой зале таможни. В его осанке сквозило достоинство того, кто получил должность от Его Величества и кто, следовательно, был отмечен лучом величия, что ослепительно сияло с трона. Как, увы, отличался жалкий вид республиканского чиновника, который, как слуга народа, ощущал себя менее чем никем, ниже самого захудалого своего начальства. Своей призрачной рукой, полупрозрачная, но величественная фигура представила мне алый символ и маленький сверток объяснявшей его рукописи. Призрачным же своим голосом он призывал меня, основываясь на святости сыновнего долга и моего почтения к нему – тому, кто вполне мог представлять себя моим официальным предком, – донести до публики его заплесневелую и изъеденную молью литературную попытку. «Сделай это, – говорил мне призрак досмотрщика Пью, с симпатией кивая головой, которая казалась такой внушительной в его незабываемом парике, – сделай это, и прибыль будет только твоей. Вскоре она тебе понадобится, поскольку в твои дни, в отличие от моих, должность не дается до конца жизни, а зачастую и в наследство. Что до меня, то пошлиной я взимаю за то, что ты расскажешь о старой мистрис Принн, увековечивание имени и памяти своего предшественника, что будет вполне правомерно». И я ответил призраку досмотрщика, мистера Пью: «Я так и сделаю».
Теперь я немало размышлял над историей Эстер Принн. Она была предметом моих многочасовых медитаций, в которые я погружался, меряя шагами свой кабинет, либо же в которую сотню раз проделывая длинный путь от главного входа в таможню до бокового и обратно. И велики были усталость и недовольство старого Инспектора, весовщиков и обмерщиков, чью дрему немилосердно прерывал стук моих шагов – то туда, то обратно. Припоминая свои собственные былые привычки, они говорили, что досмотрщик ходит по квартердеку. Они наверняка считали, что единственная моя задача – ведь, поистине, это единственная задача, ради которой разумный человек может совершать добровольный моцион, – это нагулять аппетит перед обедом. И, говоря по правде, аппетит, обостренный восточным ветром, обычно дувшим во время моих похождений, был единственным ценным результатом неустанных моих упражнений. Изысканные плоды воображения и чувственности настолько не желали поспевать в атмосфере таможни, что, останься я там на грядущие десять смен президентов, «Алая буква» никогда не предстала бы перед глазами читателей. Зеркало моего воображения потемнело. Оно не отражало иначе как с тусклой неразборчивостью ни одну из фигур, которую я изо всех сил старался себе представить. Характеры и сюжет ничуть не согревались, не говоря уж о ковкой мягкости в том слабом жаре, что мне удавалось распалить в горниле моего интеллекта. Они не светились ни страстью, ни нежностью чувств, но сохраняли всю мертвецкую окостенелость, глядя на меня с застывшей жуткой улыбкой сознательного сопротивления. «Что ты собрался с нами делать? – говорило это их выражение. – Те слабые силы, которыми ты мог когда-то обладать над эфемерным племенем, пропали. Ты обменял их на скудное золото людское. Так иди же, отрабатывай свое жалованье». Короче говоря, самые бездарные порождения моего воображения обвиняли меня в глупости, и нельзя сказать, что безосновательно.
Гнусное оцепенение владело мною не только три с половиной часа, которых ежедневно требовала от меня служба Дядюшке Сэму. Оно сопровождало меня и в прогулках по берегу моря, и в бесцельных похождениях по окрестностям, когда бы – зачастую редко и неохотно – я ни заставлял себя встряхнуться, искать живительных сил Природы, которые в прошлом дарили мне свежесть и остроту мыслей, стоило мне переступить порог Старой Усадьбы. Та же апатия, за неимением лучшего описания моих интеллектуальных усилий, довлела надо мной и в комнате, которую я с абсурдной неуместностью именовал своим кабинетом. Не оставляла она меня и в моменты, когда поздно ночью я сидел в опустевшей гостиной, освещенной лишь мерцающими углями и луной, стремясь создать воображаемые сцены, которые на следующий день могли бы украсить страницу многоцветными описаниями.
Если воображение отказывалось работать в подобный час, его вполне можно было признать безнадежным случаем. Лунный свет в знакомой комнате, белизной заливавший ковер и высвечивающий все узоры на нем так четко, что делало видимым все до мелочей, все же не давал той видимости, что свойственна утренним и дневным лучам, лучшему проводнику воображаемых гостей для романтического писателя. Уют привычной комнаты, где у каждого стула свои особенности, где на центральном столе стоит корзинка с рукоделием и лежит пара книг рядом с погашенной лампой, диван, книжный шкаф, картина на стене – все эти детали, вполне явственно видимые, настолько зачарованы необычным освещением, что, кажется, теряют материальность и сами становятся плодом воображения. Ничто не может затеряться или ускользнуть от внимания и этой перемены, сохранив тем самым реальность. Детский ботинок, кукла, сидящая в своей маленькой плетеной коляске, игрушечная лошадка – что угодно, что при свете дня было так или иначе использовано, приобретает некую странность, отдаленность, хотя видно столь же ясно, как днем. Таким образом, пол нашей семейной комнаты становится нейтральной территорией где-то на грани реального мира и сказки, где Настоящее и Воображаемое могут встречаться и проникать в природу друг друга. Призраки могут войти, не испугав нас. Слишком очаровывает сцена, чтобы выразить изумление при виде фигуры, любимой, но давно почившей, которая ныне тихонько сидит в луче волшебного лунного света, настолько привычно, что это заставляет сомневаться, вернулся ли призрак из мира иного или родной силуэт никогда и никуда не исчезал от камина.
Нечто в слабом мерцании тлеющих углей жизненно важно для эффекта, который я опишу. Они заливают комнату мягким светом, окрашивают румянцем стены и потолок, отражаются бликами от полированной мебели. Этот теплый свет смешивается с холодной призрачностью лунных лучей, сочетаясь, как человеческая сердечность и хрупкость, в формах, которые порождают воображение. Воображение превращает эти формы из застывших образов в мужчин и женщин. Глядя в зеркало, мы видим – глубоко в его темных глубинах – и почти догоревший уголь в камине, и бледные лунные лучи на полу, и повторение всего света и тени, что царят в комнате, но отдаленное от реальности, ближе к воображаемому. Однако, если в подобный час, наблюдая подобную картину, человек, сидящий в одиночестве, не способен вообразить себе странностей и заставить их выглядеть истиной, ему ни в коем случае не следует писать романов.
Что же до меня, то все время моей работы в таможне ни лунный, ни солнечный свет, ни мягкий жар камина ничуть не отличались и оживляли мой разум не более, чем мерцание сальной свечи. Чувствительность моя во всех возможных сферах, равно как и связанный с ними талант – не самый ценный и отнюдь не великий, но то было лучшее, на что я способен, – в то время покинули меня.
И все же я уверен, что, возьмись я за композицию иного рода, мои способности не казались бы такими бессмысленными и безуспешными. Я мог бы, к примеру, посвятить себя записыванию воспоминаний старого капитана, одного из инспекторов, которого я не мог не упомянуть, чтобы не оказаться предельно неблагодарным, поскольку ни дня не проходило, чтобы он не вызывал у меня восхищения и смеха своим потрясающим талантом рассказчика. Если бы я мог сохранить цветистость и силу его стиля, те юмористические нотки, которыми он привычно пересыпал свои описания, то результат, я искренне в это верю, мог бы стать новым словом в литературе. Или же я мог с готовностью взяться за более серьезную задачу. Глупо было в то время, когда материальность рутинной жизни так сокрушительно давила на меня, пытаться проникнуть сознанием в прошлый век или настойчиво пытаться создать похожий образ эпохи буквально из воздуха, в то время как непостижимую красоту моего мыльного пузыря то и дело грубо разрушал контакт с какими-либо текущими обстоятельствами. Куда разумнее была попытка распылить мысль и воображение по тусклой субстанции дня сегодняшнего и таким образом добиться яркой прозрачности, одушевить бремя, что так тяжко давило на мои плечи, искать решительно истинную и неразрушимую ценность, скрытую в мелких и утомительных инцидентах или в обычных людях, с которыми я вел знакомство. Моя вина. Страница жизни, что лежала передо мной, казалась привычной и скучной лишь потому, что я не воспринимал глубинной ее сути. То была лучшая книга, чем мне когда-либо суждено было написать, лист за листом открывавшаяся передо мной, но строки, заполняемые реальностью час за бегущим часом, исчезали так же быстро, как появлялись, – лишь потому, что мой разум желал озарения, а рука отказывалась без него работать. Когда-либо в грядущем, возможно, я вспомню несколько разрозненных фрагментов и обрывки заметок и запишу, и увижу, что буквы на странице становятся золотом.
Эти осознания пришли ко мне слишком поздно. А в том настоящем я знал лишь, что предполагаемое удовольствие стало для меня изнурительным и безнадежным трудом. И не было случая выразить стоном свое отношение к подобному состоянию дел. Я перестал быть писателем терпимо слабых рассказов и эссе и стал относительно хорошим таможенным досмотрщиком. Вот и все. Но, несмотря на это, невозможно было смириться с преследующим подозрением, что интеллект вырождается, выдыхается без сознательности, как эфир из склянки, и с каждым взглядом на него убеждаешься, что уровень вновь понизился. Этот факт не вызывал сомнений, поскольку, наблюдая за собой и другими, я пришел к выводу, что влияние государственного учреждения на человека не слишком благоприятно сказывается на дальнейшем образе жизни упомянутого человека. И в какой-то определенной форме я могу далее развить эти эффекты. Здесь же достаточно будет сказать, что долгое время пребывающий на должности таможенного чиновника человек едва ли может оказаться достойным или ценным персонажем, и тому есть множество причин. Одна из них заключается в должности, которую он занимает, а другая – в самой природе его занятия, которая (я уверен, что изначально она честна) не имеет отношения к совместным усилиям человечества.
Эффект, который, кажется мне, можно наблюдать в той или иной степени в каждом человеке, занимавшем такую должность, заключается в том, что, покуда он полагается на могучую руку Республики, его собственные личные силы покидают его. Пропорционально силе или слабости своего характера он теряет способность к самостоятельности. Если он от природы наделен огромной долей личной энергии или обессиливающая магия этого места не слишком долго воздействует на него, утраченные силы можно восстановить. Уволенный чиновник – везунчик в том, что сумел своевременно получить невежливый пинок в сторону борьбы с недобрым миром, – может вернуться к себе и стать тем, кем когда-то являлся. Но подобное происходит редко. Обычно он держится за свою должность достаточно долго, чтобы себя уничтожить, а затем, выброшенный, когда жилы уже ослабели, едва справляется со сложным жизненным путем. Сознание собственной немощи – того, что вся его закаленная сталь и упругость потеряны, делает его навсегда обреченным искать, тоскуя, внешней поддержки. Постоянно подпитывающая его надежда – галлюцинация, которая, перед лицом всех разочарований и осознания невозможностей, преследует его при жизни и, как подсказывает мне воображение, даже краткие мгновения после смерти, походя на холерные конвульсии. Так бывает, если вскоре по какому-то счастливому стечению обстоятельств он не восстановится на должности. Эта мера более всего остального крадет силы и способности взяться за любое предприятие, о котором он мог мечтать. К чему тяжелый труд и неприятное вытаскивание себя из грязи, если вскорости сильная рука Дяди поднимет и поддержит его? К чему зарабатывать себе на жизнь здесь или отправляться рыть золото в Калифорнии, если вскоре счастье будет приходить ежемесячно в виде кучки блестящих монет из кармана того же Дяди? Печально и любопытно видеть, как малейший привкус официальной службы заражает бедняг сей необычной болезнью. Золото Дяди Сэма – я ничуть не желаю проявить неуважение к почтенному старому джентльмену – обладает в данном случае всеми качествами дьявольских кладов. Любой, кто коснется его, должен тщательно за собой следить, иначе обнаружит, что сделка заключена не в его пользу и касается если не души, то множества лучших его свойств: упрямой силы, смелости и постоянства, правдивости, уверенности в себе и всего, что присуще выдающемуся мужественному человеку.
Не правда ли, чудесная перспектива? Не то чтобы досмотрщик в моем лице применил этот жизненный урок к себе или признал, что будет совершенно разрушен либо продолжением службы, либо уходом с нее. И все же мои рефлексии были не слишком приятны. Я начал поддаваться меланхолии и тревожиться, постоянно заглядывая в себя, чтобы найти, какие из немногих моих талантов исчезли и до какой степени дошел ущерб оставшимся. Я пытался подсчитать, сколько еще смогу оставаться в таможне и при этом действовать как мужчина. Признаться по правде, то было главное мое опасение (поскольку такого тихого человека, как я, ни за что не уволят, а чиновникам не свойственно увольняться с должности), заключавшееся в том, что я, скорее всего, поседею и одряхлею, оставшись досмотрщиком, и могу превратиться во второе животное, подобное старому Инспектору. Ведь могло быть и так, что томительное течение официальной жизни, ожидавшее меня последующие годы, поступило бы со мной точно так же, как с этим почтенным другом, – сделало бы обеденные часы главным ядром дня, с тем, чтобы оставшееся время я проводил, как старый пес, в дремоте на солнышке или в тени. Ужасная перспектива для человека, который считал лучшим определением счастья в жизни полноценное обладание всеми своими возможностями и способностями. Но все это время я тревожился зря. Провидение готовило мне куда лучшее будущее, чем я был способен представить.
Выдающимся событием в третий год моего пребывания на должности – если следовать тону «П. П.» – были выборы президента, на которых победил генерал Тэйлор. Это крайне важно для полного понимания преимуществ должностного положения, видеть последствия прихода новой, враждебной администрации. Позиция чиновника в таком положении крайне печальна, невозможна, невыносима даже для самого отчаявшегося смертного, благоприятный исход невозможен при любом выборе, и все же порой выясняется, что худшее из событий внезапно оказалось лучшим. Но то был странный опыт для человека, обладающего гордостью и чувствительностью, – знать, что его интересы во власти людей, которые не любят его и не понимают и которые, при той или иной потребности, скорей казнят его, чем помилуют. Странно было для того, кто все время сохранял спокойствие, наблюдать, как в часы триумфа растет кровожадность, и сознавать, что направлена она в том числе на него самого! Мало что в людской природе может сравниться с отвратительностью этой тенденции – я наблюдал людей, которые были ничуть не хуже своих соседей и становились жестокими просто потому, что обрели силу причинять другим вред. Если бы гильотина в качестве решения должностных проблем, была реальной, а не самой подходящей из метафор, я искренне уверен, что активные члены победившей партии были бы весьма рады возможности обезглавить нас всех и благодарили бы Небо за эту возможность! И кажется мне – спокойному и любопытному наблюдателю как побед, так и поражений, что этот яростный и жесткий дух злобы и мстительности не был присущ моей партии во время многих ее триумфов, в той мере, в которой его демонстрировали виги. Демократы занимают должности, как правило, поскольку нуждаются в них, и потому что такова многолетняя практика политической борьбы, которую, до заявления иного строя, осуждать можно лишь из трусости и слабости. Но долгая привычка к победам сделала демократов щедрыми. Они знают, как щадить, если есть подобная возможность, а когда наносят удар, их секира остра, но редко отравлена злой волей; к тому же у них нет постыдной привычки пинать голову, которую они только что отсекли.
Выражаясь кратко, как бы ни было неприятно мое затруднительное положение, я видел немало причин поздравить себя с тем, что я на стороне проигравших, а не победителей. Если прежде я не относился к преданным партийцам, то теперь начал, и в пору страданий и напастей очень четко ощутил, какой партии я отдаю предпочтение; не без определенного сожаления и стыда за то, что шансы удержаться на должности у меня куда выше, чем у моих собратьев-демократов. Но кто способен заглянуть в будущее хоть на дюйм дальше собственного носа? Моя голова полетела первой.
И то был редкий, если не первый в истории случай, когда человек воспринимал потерю головы лучшей переменой в своей жизни. И все же, как и в большей части наших неприятностей, даже таких серьезных, есть вероятность исцеления и утешения, если пострадавший попытается взять лучшее, а не худшее из того, что случилось с ним. В моем конкретном случае утешающие меня аргументы были буквально под рукой и практически появлялись в моих размышлениях задолго до того, как действительно мне понадобились. В свете моей предыдущей усталости от должности и нерешительных мыслей об отставке мое везение чем-то напоминало везение человека, который размышлял о суициде и, потеряв всякую надежду, наткнулся на возможность стать жертвой убийц. В таможне, как ранее в Старой Усадьбе, я провел три года – срок достаточно долгий для успокоения уставшего мозга: достаточно долгий, чтобы стряхнуть старые привычки рассудка и создать место для новых; достаточно, если не слишком, долгий, для неестественного уклада жизни, для труда, который не приносит ни радости, ни пользы ни одному человеку, и возможности воздерживаться от работы, которая как минимум успокоила бы мои тревожные порывы. И более того, несмотря на бесцеремонное выселение, бывший досмотрщик не был слишком уж недоволен тем, что виги посчитали его врагом; ведь его бездеятельность в делах политических, тенденции свободно парить в широком и тихом просторе, доступном всему человечеству, вместо необходимости на узких тропах расходиться в разные стороны братьям из одной семьи, – все это порой заставляло его брата демократа задумываться, действительно ли он их друг. Ныне, после того как он заслужил мученический венец (хоть и не имел больше головы, чтобы носить его), все точки были расставлены. Наконец, как бы ни был незначителен его героизм, он считал более почетным свое свержение вместе с партией, которой он принадлежал, нежели возможность остаться одиноким выжившим, в то время как более достойные собратья пали; остаться, чтобы затем, после четырех лет пребывания на милости враждебного руководства, заново определять свою позицию и умолять о еще более унизительной милости у руководства дружественного.
В то время пресса подхватила мое дело, и пару недель меня таскали по периодическим изданиям, в моем обезглавленном состоянии, как Всадника без головы из рассказа Ирвинга, жуткого и мрачного, жаждущего погребения, которое положено политическому мертвецу. Но то была моя метафорическая личность. Реальное же человеческое существо в моем лице сохранило голову на плечах и пришло к выводу, что все к лучшему. А затем вложило деньги в чернила, бумагу и стальные перья, открыло давно простаивающий впустую письменный стол и снова посвятило себя литературе. И на сцену вышли литературные изыскания моего предшественника, мистера досмотрщика Пью. Заржавев от долгой неподвижности, механизм моего интеллекта требовал времени, чтобы запуститься и работать над историей с хоть каким-то подобием эффективности. Но даже тогда, хоть все мои мысли и были поглощены задачей, глаза уставали от жесткости и мрачности результата, слишком мало согретого лучами солнца, почти не оживленного нежными и знакомыми воздействиями, которые сглаживают почти любую сцену природы и реальной жизни, и, без сомнения, должны так же смягчить их описание. Этим далеко не очаровательным эффектом я обязан, наверное, периоду с трудом достигнутой революции, которая все еще бурлила, творя историю. Впрочем, это не объясняет недостатка бодрости в сознании писателя: он был счастливее, блуждая во мраке фантазий, лишенных солнца, чем когда-либо с тех пор как покинул Старую Усадьбу. Некоторые более краткие заметки, которые в дальнейшем собрались в полноценный том, также были написаны в период моего непреднамеренного отстранения от перипетий и почета общественной жизни, а остальные собраны из периодики и журналов настолько давних, что они прошли полный цикл и вернулись, обретя определенную новизну. Продолжая метафору о политической гильотине, весь этот том можно озаглавить «Посмертные записки обезглавленного досмотрщика», а очерк, который я сейчас подвожу к концу, слишком автобиографичен для того, чтобы публиковать его при жизни, но простителен джентльмену, который пишет из мира потустороннего. Да пребудет мир во всем мире. Благодарю своих друзей. Прощаю всех своих врагов. Поскольку ныне я в обители тишины.
Моя жизнь в таможне кажется теперь далеким сном. Старый Инспектор, к крайнему моему сожалению, не так давно погибший, будучи сброшен лошадью (иначе наверняка жил бы вечно), и все другие достойные персонажи, что сидели с ним в приемной таможни, кажутся мне теперь лишь тенями: седоволосыми морщинистыми образами, с которыми играло мое воображение, а теперь позабыло о них навсегда. Купцы – Пингри, Филипс, Шепард, Аптон, Кимбалл, Бертрам, Хант – эти и многие другие имена, что были такими привычными моему слуху еще шесть месяцев назад, – эти люди, движения судов, что, казалось, занимают такую важную позицию в нашем мире, – как мало времени потребовалось, чтобы отдалить меня от них не только в действиях, но и в воспоминаниях. Я уже с трудом припоминаю их лица и имена. Вскоре точно так же мой родной город будет являться мне в дымке памяти, в тумане, что клубится вокруг и внутри, словно Салем не часть реальной земли, а разросшийся город в облаках, населенный лишь воображаемыми людьми в деревянных домах, что бродят по знакомым коротким улочкам и главной, длинной и неприглядной. Отныне он перестает быть реальностью моей жизни, я обитаю в другом месте. Мои добрые горожане не будут слишком сожалеть обо мне, поскольку (хоть я и надеялся, и немало, что своими литературными попытками обрету некую значимость в их глазах, заслужу приятные воспоминания о себе в месте, где жили и упокоились столь многие мои предки) здесь никогда не было искренней атмосферы, так необходимой литератору для наиболее плодотворного труда. Мне будет лучше среди других лиц, и нелишне сказать, что эти, знакомые, все так же неплохо будут обходиться без меня.
Возможно, однако, – о радостный полет моей мысли! – что праправнуки нынешнего населения порой будут с теплотой размышлять о борзописце минувших дней, когда антиквар дней грядущих в числе прочих знаменательных для истории города мест упомянет расположение городской водокачки.
1
Дверь тюрьмы
Толпа бородатых мужчин, в тусклой одежде и серых широкополых остроконечных шляпах, вперемежку с женщинами, спрятавшими волосы под чепцы или стоящими с непокрытыми головами, собралась перед деревянным зданием с массивной дубовой дверью, усеянной железными гвоздями.
Основатели новой колонии, какую бы Утопию человеческих добродетелей и счастья ни планировали изначально, неминуемо распознавали среди самых ранних своих прагматичных потребностей необходимость отвести часть девственной земли под кладбище и еще одну часть – под постройку тюрьмы. Согласно этому правилу, вполне можно предположить, что праотцы Бостона построили первую тюрьму где-то в окрестностях Корнхилла, почти одновременно с тем, как разметили первое место погребения, на участке Айзека Джонсона и вокруг его могилы, которая впоследствии стала центром всех приходских захоронений на старом церковном кладбище Королевской часовни. Совершенно логично, что спустя пятнадцать-двадцать лет после основания города деревянная тюрьма уже выцвела от погоды, покрылась пятнами и приобрела другие признаки возраста, придававшие еще более мрачный вид ее коричневому хмурому фасаду. Из-за ржавчины на тяжеловесной оковке дубовая дверь выглядела более древней, чем любое другое творение Нового Света. Как и все, относящееся к преступлениям, это место, казалось, не имело поры юности. Перед отвратительным зданием, между ним и проезжей частью улицы, находилась лужайка, густо заросшая лопухом, лебедой, дурманом и прочими сорняками, которые, похоже, нашли нечто родственное с землей, так рано породившей черный цветок цивилизованного общества – тюрьму. Но по одну сторону от прохода, пустив корни почти что в самый порог, рос куст дикой розы, покрытый теперь, в июне, нежными цветами, которые словно предлагали свой аромат и хрупкую красоту узнику, когда он входил, и приговоренному преступнику, когда тот выходил навстречу своей судьбе, – как свидетельство того, что в глубине сердца Природа способна пожалеть и смилостивиться над ним.
Жизнь этого розового куста, по странному стечению обстоятельств, хранила сама история. Однако просто ли он уцелел посреди суровой старой дикости, пережив падение гигантских сосен и дубов, изначально осенявших его своей тенью, или, согласно вере и утверждениям почтенных жителей, вырос под ногами праведной Энн Хатчинсон, когда она вошла в тюремную дверь, не нам решать. Обнаружив его прямо на пороге нашей повести, которая вот-вот должна явиться к нам из этого зловещего портала, мы едва ли можем поступить иначе, нежели сорвать один из его цветов и предложить читателю. Он может послужить, как мы смеем надеяться, символом благоуханного цвета морали, который можно найти на жизненных путях или обнаружить в конце истории о человеческой слабости и печали.
2
Рыночная площадь
Лужайка перед тюрьмой на Тюремной улице в то летнее утро двухвековой давности была заполнена довольно большим количеством обитателей Бостона, и все их взгляды были буквально прикованы к окованной железом дубовой двери. Среди любого другого населения или в более поздние периоды истории Новой Англии мрачная суровость, от которой каменели черты бородатых физиономий этих добрых людей, предвещала бы приближение некоего отвратительного события. Ее можно было счесть не чем иным, как предвкушением казни какого-нибудь преступника, мятежника, которому законный трибунал подтвердил назначение публичного наказания. Но, учитывая раннюю суровость пуританского характера, подобную трактовку нельзя было считать несомненной. То вполне мог бы быть нерасторопный раб или непочтительное дитя, которого родители отдали гражданским властям для увещевания у столба для порки. То мог бы быть один из антиномийцев, квакер или приверженец иной неортодоксальной религии, которого собирались изгнать из города, или индеец, бездельник и бродяга, которого огненная вода белых людей заставила дебоширить на улицах, а теперь их же плети должны были вернуть в тень леса. Могла быть также и ведьма, вроде старой миссис Хиббинс, вдовы мирового судьи, отличавшейся мерзким характером и приговоренной к виселице. В любом случае та же суровость поведения была бы свойственна зрителям, как и положено людям, для которых религия и закон почти равнозначны и настолько тщательно перемешаны в сознании, что самые мягкие и самые жестокие акты публичного наказания были для них равно отвратительны и достойны почитания. Сочувствие, которое мог искать нарушитель закона в подобных зеваках у эшафота, было холодным и скудным. С другой стороны, наказание, которое в наши дни ограничилось бы насмешками и дурной славой, тогда облекалось таким же достоинством, как сама смертная казнь.
Стоило отметить, что в летнее утро, когда наше повествование начинает свой путь, женщины, присутствовавшие в толпе, казалось, были особенно заинтересованы в том, какое именно наказание будет вынесено нарушителю. Те времена не настолько располагали к изысканности, чтобы носительницы пышных юбок с фижмами из чувства пристойности удерживались от выхода в подобное общество и, при случае, от проталкивания своих не столь уж мощных тел в самую густую толпу, как можно ближе к эшафоту. Морально, равно как и физически, те жены и девы, порожденные старой Англией и продолжившиеся в милых наследницах, были сшиты из куда более плотной ткани, нежели те, кто появился спустя шесть или семь поколений; поскольку, следуя цепи наследования, каждая последующая мать передавала своему чаду чуть более слабый румянец, более тонкую и мимолетную красоту, не такую коренастую фигуру, а порой и характер меньшей силы и твердости. Женщины, стоявшие у тюремной двери, не отошли и на полвека от времени, когда мужеподобная Елизавета была вполне приемлемой представительницей их пола. Они были ее соотечественницами, вскормленные ростбифом и элем своей родной земли, и духовные их потребности едва ли были изысканней телесной пищи. Яркое утреннее солнце освещало широкие плечи и весьма объемные бюсты, сияло на круглых румяных щеках, созревших еще на далеком острове и не успевших побледнеть и осунуться в атмосфере Новой Англии. Помимо этого их отличала прямота и полнота речи, которой отличалось большинство упомянутых матрон, наверняка поразившая бы нас в наше время как содержанием, так и громкостью изложения.
– Хозяюшки, – говорила дама лет пятидесяти, отличавшаяся жесткостью черт. – Уж я вам скажу, что думаю. Куда полезней для общества было бы, если б нам, почтенным женам и добропорядочным прихожанкам, дали разобраться с такой паршивкой, как эта Эстер Принн. Что скажете, кумушки? Если б стояла та шлюшка перед нами пятерыми, что здесь сейчас собрались, отделалась бы она таким приговором, как наш почтенный магистрат ей подарил? Пресвятая Дева, вот уж нет.
– Люди говорят, – сказала другая, – что преподобный мастер Диммсдэйл, ее духовный пастырь, всем сердцем скорбит, что подобный скандал разразился в его общине.
– Судьи наши богобоязненные джентльмены, но слишком уж милосердны, что есть, то есть, – добавила третья цветущая матрона. – Им бы, по крайней мере, клеймо раскаленным железом поставить на лбу этой Эстер Принн. Уж от этого мадам Эстер задергалась бы, клянусь. Но она – дурная девка – наплюет, что ей к корсажу платья ни пришей. Уж увидите, она даже брошью может это прикрыть или еще каким поганым украшением и разгуливать по улицам с той же наглостью, что всегда!
– О, но ведь, – вмешалась чуть тише юная жена, державшая за руку ребенка, – даже прикрой она метку, ей не избавить сердце от причиняемой ею боли.
– Да что мы говорим о метках да клеймах, на платье они у нее окажутся или будут выжжены на лбу?! – закричала еще одна дама, самая некрасивая и самая безжалостная среди самопровозглашенных судей. – Эта женщина всех нас покрыла позором и заслуживает смерти, разве нет у нас закона про подобное? Наверняка есть, и в Писании, и в кодексе. Так пусть же судьи, от которых никакого проку, подумают, каково было б им, если бы их жены и дочери загуляли.
– Господи боже, – воскликнул мужчина в толпе, – разве в женщине нет добродетели, что рождается не под страхом виселиц? Худшего я не слышал! Тише, кумушки, вон уже отпирается дверь тюрьмы, сейчас появится сама миссис Принн.
Дверь тюрьмы распахнулась изнутри, и первым, как темная тень, в солнечные лучи вышел мрачный и зловещий городской судебный пристав, с мечом на боку и посохом, символом своей должности, в руке. Этот человек представлял собой всю зловещую строгость пуританского свода законов, в котором ему надлежало применять последнее и самое непосредственное наказание к преступнику. Левой рукой он опирался на посох, правой же удерживал за плечо молодую женщину, которую вел вперед, пока на самом пороге тюрьмы она не оттолкнула его движением, отмеченным врожденным достоинством и силой характера, и вышла наружу, словно по собственной доброй воле. На руках она несла младенца, месяцев трех от роду, который моргал и отворачивал личико от слишком яркого дневного света; ведь до сих пор его существование проходило лишь в серых сумерках темницы или других, таких же темных, помещениях тюрьмы.
Когда молодая женщина – мать этого младенца – оказалась на виду у толпы, ее первым импульсом, похоже, было как можно сильнее прижать к груди свое дитя; и это был не столько импульс материнской любви, сколько попытка скрыть определенный символ, что был пришит или пристегнут к ее платью. Но миг спустя, однако, мудро рассудив, что результат ее позора плохо подходит для сокрытия позорной метки, она подхватила дитя одной рукой и с пламенеющими щеками, но с надменной улыбкой и взглядом, отрицавшим всякое смущение, оглядела своих соседей и горожан. На груди ее платья, окруженная замысловатой вышивкой и фантазийными узорами златотканой нити, виднелась вырезанная из алой ткани буква «А». Она была так художественно вышита, столько мастерства и фантазии было в нее вложено, что метка обретала вид финального и крайне уместного украшения на корсете ее платья, блестящего, подобранного со вкусом эпохи, но далеко за гранью того, что позволяли в колонии законы об ограничении роскоши.
Молодая женщина была высокой, статной, элегантной, с идеальной фигурой. У нее были густые темные волосы, настолько блестящие, что солнце от них отражалось бликами; и лицо с правильными чертами и цветущей кожей, которое помимо красоты производило сильнейшее впечатление благодаря морщинке меж четко очерченных бровей и глубоким темным глазам. Она была женственна в представлении женской аристократичности той эпохи; ее отличали скорее достоинство и осознание своего положения, в отличие от хрупкой, эфемерной и неопределенной грации, которую ныне считают признаком таковой. Никогда еще Эстер Принн не была более леди, в древнем понимании этого слова, нежели при выходе из тюрьмы. Те, кто знал ее раньше и кто ожидал увидеть ее потускневшей и затененной зловещей тучей, были удивлены, даже поражены, рассмотрев, насколько засияла ее красота, создавая ореол из несчастья и бесчестья, которые окутали ее. Следовало бы признать, что вид ее отозвался бы в чувствительном зрителе сильной болью. Платье, сшитое ею для пребывания в тюрьме, было смоделировано согласно ее воображению и, похоже, отражало своей живописной причудливостью силу духа и отчаянное безрассудство настроения. Но точкой, что приковывала к себе все взгляды и буквально преображала носительницу – настолько, чтобы мужчины и женщины, ранее знакомые с Эстер Принн, теперь вели себя так, словно видят ее впервые, – была алая буква, так фантазийно вышитая и такая яркая на ее корсаже. Буква обладала эффектом заклятия, обрывающего обычные отношения с человечеством и заключающего носительницу в сферу одиночества.
– С иглой она управляться умеет, не поспоришь, – заметила одна из глазевших на нее женщин, – но была ли прежде этой бесстыдной шлюхи женщина, которая осмелилась так это показывать? Она же просто смеется в лицо нашего богом данного суда, она гордится тем, что они, достойные джентльмены, считали для нее наказанием.
– Хорошо было бы, – пробормотала самая ожесточенная из старых дам, – если бы мы сорвали это богатое платье с нежных плеч мадам Эстер, а что до алой буквы, которую она так занятно вышила, то я уступлю свой фланелевый платок от ревматизма, он ей больше подойдет!
– Ох, мир вам, соседки, мир! – прошептала их самая юная компаньонка. – Не нужно, чтобы она вас слышала! Ведь каждый вышитый стежок она ощущала уколом в собственное сердце.
Мрачный пристав сделал жест своим посохом.
– Дорогу, добрые люди, расступитесь, именем Короля! – воскликнул он. – Дайте пройти, и я обещаю вам, миссис Принн окажется там, где каждый мужчина, каждая женщина и ребенок смогут хорошо рассмотреть ее смелое платье с нынешнего момента до часа пополудни. Благословенна будь колония Массачусетс, где любой грех будет обличен при ярком свете дня! Идемте, мадам Эстер, покажете свою алую букву на рыночной площади!
Толпа зрителей образовала коридор для прохода. В сопровождении пристава и беспорядочной толпы хмурых мужчин и презрительно кривящихся женщин Эстер Принн была направлена к месту, определенному ей в наказание. Толпа любопытных непоседливых школьников, мало что понимающих в сути происходящего, кроме того что оно подарило им день каникул, бежала перед процессией, постоянно оглядываясь, чтобы рассмотреть ее лицо, дитя на ее руках и позорную букву на ее груди. В те дни путь от двери тюрьмы до рыночной площади был коротким. Однако с точки зрения узницы путешествие могло показаться долгим, ведь, несмотря на свое высокомерное поведение, она наверняка испытывала агонию при каждом шаге тех, кто пришел поглазеть на нее, словно само ее сердце было брошено на улицу, под ноги топочущей толпы. В нашей природе, однако, заключены резервы, одновременно чудесные и милосердные, и страдающий никогда не сознает силы переживаемой пытки, истинная боль приходит к нему после нее. Оттого Эстер Принн и смогла, с почти отстраненным спокойствием, пройти свое тяжкое испытание и подняться на некое подобие эшафота в западной части рыночной площади. Тот находился почти под карнизом самой старой церкви Бостона и казался ее продолжением.
На самом деле этот эшафот, являющийся частью карательной системы, сейчас, два или три поколения спустя, остался лишь в качестве исторической достопримечательности, но в тот век был мерой поддержки духа добрых горожан, не меньшей, чем гильотина в среде французских террористов[5]. Вкратце, это был настил на сваях, а над ним возвышалась рама того инструмента воспитания, что был устроен для удерживания человеческой головы в жесткой хватке, посредством которой лицо было открыто взглядам собравшихся. В этом сочетании дерева и железа заключался сам идеал позора. Не может быть, мне кажется, худшего преступления против нашей общей природы – какими бы ни были преступления самого провинившегося, – поругания более вопиющего, чем запрет спрятать лицо от стыда, а в этом и заключалась суть назначенного наказания. В случае Эстер Принн, однако, и не так уж редко в иных случаях, наказание лишь велело ей простоять определенное время на помосте, но без удушающей хватки на шее и тисков для головы, являвшихся самой дьявольской характеристикой этого мерзкого изобретения. Отлично зная свою роль, она поднялась по пролету деревянных ступеней и оказалась видна всей площади, очутившись на высоте мужских плеч выше уровня улицы.
Окажись папист в этом сборище пуритан, и он мог бы увидеть в этой прекрасной женщине, словно сошедшей с картины – таковы были ее платье и выражение лица, – с младенцем, прижатым к груди, напоминание о Божественном Материнстве, в изображении которого соревновались многие прославленные художники. Да, зрелище могло напомнить ему, но лишь по контрасту, о святом изображении Непорочной Матери, Дитя которой должно было искупить грехи мира. Здесь же картина была запятнана самым глубоким прегрешением против самого священного качества человеческой жизни, и эффект был таков, словно мир потемнеет от красоты этой женщины, погрязнет в бездне от ребенка, которого она родила.
Сцена внушала благоговейный страх, который и должна внушать нам демонстрация вины и позора наших собратьев, прежде чем общество испортится настолько, чтобы улыбаться вместо содрогания. Свидетели позора Эстер Принн еще не преодолели врожденной простоты. Им хватило бы жестокости наблюдать и ее смерть, будь приговор иным, и не роптать о чрезмерной его суровости, но в них не было бессердечия иного общественного уклада, который нашел бы повод для шуток в демонстрации, подобной нынешней. Даже будь у них расположенность к высмеиванию сути дела, ее наверняка подавило и пересилило присутствие мужчины, почитаемого не меньше губернатора, и нескольких его советников, судьи, генерала, городских священников, которые сидели или стояли на балконе молитвенного дома, глядя вниз, на помост. Когда подобные персонажи решаются принять участие в спектакле, не рискуя своим величием, почтенностью ранга или должности, можно с полной уверенностью заключить, что законный приговор будет серьезен и эффективен. Соответственно, толпа была хмурой и строгой.
Несчастная виновница держала лицо изо всех отпущенных ей сил, под тяжелым грузом тысячи безжалостных глаз, прикованных к ней и сосредоточенных на ее корсаже. Этого почти невозможно было вынести. Будучи натурой импульсивной и страстной, она готовила себя к встрече с жалами и отравленными кинжалами публичного унижения, изливавшегося во всевозможных оскорблениях; но молчаливая суровость публики обладала качеством настолько ужасающим, что она предпочла бы стать целью их презрительных насмешек. Если бы смех загрохотал над обществом – пусть бы каждый мужчина, каждая женщина, каждый тонкоголосый ребенок внесли в него свою лепту, – Эстер Принн могла бы отплатить им горькой улыбкой отвращения. Но под свинцовым давлением, которое ей суждено было отныне выносить, она не единожды чувствовала, что готова закричать во всю силу своих легких и сброситься с помоста на землю, иначе сойдет с ума.
Однако все же были периоды, когда все происходящее, в центре которого находилась она сама, словно исчезало перед глазами или, по крайней мере, мерцало и плыло перед ними, словно собрание призрачных бесформенных видений. Ее рассудок, особенно ее память, с неестественной активностью все выдавали иные сцены помимо грубо срубленной улицы маленького городка, стоящего на краю диких земель запада: иные лица вместо угрюмо глядящих на нее из-под полей остроконечных шляп. Воспоминания, самые пустяковые и незначительные, отрывки из детства и школьных дней, спорта, ребяческих споров, мелких домашних дел, которыми она занималась в девичестве, – вперемешку с основными воспоминаниями о последующей жизни; каждый образ был столь же живым, как другие, все они были одинаково важны, и всё казалось игрой. Возможно, то было инстинктивное изобретение ее духа, пытающегося избавиться в процессе просмотра этих фантастических форм от жестокого гнета суровой реальности.
Как бы то ни было, помост эшафота послужил тем возвышением, с которого Эстер Принн смогла рассмотреть весь путь, пройденный ею со времен счастливого детства. Стоя на позорном возвышении, она снова видела родную деревню Старой Англии, видела родительский дом: просевшее строение из серого камня, отмеченное печатью бедности, но сохранившее почти что стертый герб над входом, дань древней принадлежности к аристократии. Она видела лицо отца, его суровые брови, почтенную седую бороду над старомодными брыжами времен Елизаветы, видела свою мать, заботливую и внимательную, любовь которой всегда хранила в памяти, а мягкие увещевания даже после ее смерти часто служили предостережением от ошибок на жизненном пути. Она видела свое собственное лицо, сияющее девической красотой и освещающее тусклое зеркало, в котором она себя разглядывала. А затем пришло другое воспоминание: о мужчине, уже хорошо тронутом течением лет, бледном, худом, с лицом ученого, с глазами тусклыми и слезящимися от света ламп, что служили для прочтения стольких массивных книг. Те же затуманенные глаза приобретали странную пронзительность, когда их владелец собирался прочесть человеческую душу. Эта фигура человека ученого и затворника, как не могла не напомнить женская наблюдательность Эстер Принн, была слегка искажена, левое плечо ее было выше правого. Затем в мысленной ее картинной галерее возникли запутанные узкие улочки, высокие серые дома, огромные соборы и общественные здания, древние, замысловатой архитектуры континентального города; там ждала ее новая жизнь, сотканная из истертых временем материалов, словно зеленый мох на крошащейся стене. И, наконец, взамен сменяющихся образов пришла картина рыночной площади поселения пуритан, где все горожане собрались и прожигали мрачными взглядами Эстер Принн – да, ее саму, – стоящую на позорном возвышении, с младенцем на руках и буквой «А» из алой ткани, причудливо вышитой золотой нитью на груди.
Могло ли это быть правдой? Она с такой силой прижала ребенка к груди, что тот закричал, и опустила взгляд к алой букве, даже коснулась ее пальцем, чтобы убедиться, что младенец и позор были реальны. Да, такова была ее реальность – все остальное для нее исчезло!
3
Узнавание
От мучительного осознания себя объектом сурового и всеобщего рассмотрения носительница алой буквы была освобождена через некоторое время, заметив на краю толпы фигуру, что с непреодолимой силой заняла все ее мысли. Индеец в своей национальной одежде стоял там, но краснокожие были не столь уж редкими гостями английских поселений, чтобы привлечь внимание Эстер Принн в подобное время, особенно настолько, чтобы вытеснить все иные мысли и идеи из ее головы. Но рядом с индейцем, вполне очевидно, будучи его спутником, стоял белый мужчина, одетый в странную смесь цивилизованного и дикарского костюмов.
Он был невысок, лицо его испещряли морщины, хотя старым его все же не назовешь. Черты его несли печать образованности, присущую человеку, который так возделывал свой интеллект, что этот труд не мог не отразиться физически, придав ему определенные приметы. К тому же, несмотря на кажущуюся небрежность его разномастного наряда, он явно пытался скрыть или уменьшить особенность сложения. Эстер Принн отчетливо видела, что одно плечо этого человека было выше другого. И вновь, в первый миг узнавания его тонкого лица и легкой деформации фигуры, она прижала ребенка к себе с такой судорожной силой, что несчастный младенец еще раз вскрикнул от боли. Но мать, похоже, этого не услышала.
С момента своего прибытия на рыночную площадь и до того, как она заметила его, незнакомец не отводил взгляда от Эстер Принн. Поначалу невнимательного, как пристало человеку, привыкшему смотреть в глубь себя, не считая внешние материи достаточно ценными и важными, если те не имеют отношения к происходящему внутри его разума. Однако довольно скоро взгляд его стал острым и пронзительным. Судорога ужаса змеей вползла на его лицо, исказила черты и застыла на мгновение, открыв чужим взглядам всю свою извилистую неприглядность. Его лицо потемнело от какого-то сильного чувства, которое, однако, он немедленно подавил усилием воли, и, за исключением упомянутого мгновения, выражение его лица снова могло показаться спокойным. Спустя еще миг судорога стала практически незаметна и погрузилась в глубины его натуры. Когда он заметил, что взгляд Эстер Принн прикован к нему, увидел, что она, похоже, его узнала, он медленно и спокойно поднял палец, покачал им в воздухе и прижал к губам.
Затем коснулся плеча горожанина, который стоял рядом, и обратился к нему с формальной учтивостью:
– Молю, добрый сэр, – сказал он, – скажите мне, кто эта женщина? И чем она заслужила публичный позор?
– Ты, друг, наверное, чужак в наших краях, – ответил горожанин, с любопытством разглядывая собеседника и его дикаря-компаньона. – Иначе наверняка бы слышал о миссис Эстер Принн и ее грехах. Она, уж поверь, оскандалила, хуже некуда, божью церковь мистера Диммсдэйла.
– Вы не ошиблись, – последовал ответ. – Я чужак, и мне пришлось много странствовать, пусть против моей воли. Несчастья преследовали меня в море и на суше и долго удерживали в неволе среди южных язычников, ныне же приведен сюда этим индейцем, дабы меня выкупили из плена. Так не расскажешь ли ты мне об этой Эстер Принн – я верно расслышал ее имя? – о преступлениях этой женщины, что привели ее на тот эшафот?
– Верно, друг, и, думаю, после всех твоих бед и жизни в глуши это прольет бальзам на твое сердце, – сказал горожанин. – Ты оказался в землях, где грехи выявляют и наказывают на виду правителей и горожан, вот как здесь, в нашей богоспасаемой Новой Англии. Та женщина, сэр, стоит вам знать, была женой одного образованного человека, урожденного англичанина, который переселился в Амстердам, где некоторое время назад решил пересечь океан и обосноваться с нами здесь, в Массачусетсе. С этой целью он и отправил жену прежде себя, оставшись заниматься какими-то важными делами. Подумать только, добрый сэр, уж два года, или чуть меньше, что эта женщина жила здесь, в Бостоне, она не получила ни единой весточки от этого ученого джентльмена, мистера Принна; а уж молодая жена, видите ли, оставленная жить по собственному скудному пониманию…
– Ах! Ну да! Улавливаю вашу мысль, – сказал незнакомец с горькой улыбкой. – Тому ученому джентльмену, как вы его назвали, стоило бы почитать в своих книгах и об этом. Не просветите ли, добрый сэр, кто стал отцом того ребенка, – ему, насколько я могу судить, месяца три или четыре, – которого миссис Принн держит на руках?
– По правде, друг, это до сих пор осталось загадкой, и нет средь нас пророка Даниила, который бы ее разгадал, – ответил горожанин. – Мадам Эстер совершенно отказывается говорить, и судьи без толку ломали над этим головы. Вполне возможно, что виновный стоит и глядит на это печальное представление, неизвестный нам, и забывает, что Господь его видит.
– Тому ученому, – заметил незнакомец, снова улыбаясь, – следовало бы лично приехать и заняться этой загадкой.
– Следовало бы, но только если он до сих пор жив, – откликнулся горожанин. – Ныне, добрый сэр, наш суд Массачусетса решил, что женщину эту, молодую и красивую, наверняка сильно искушали, подталкивая к падению, а муж ее, скорее всего, давно покоится на дне моря, а потому они решили не карать ее по всей строгости нашего праведного закона. Иначе приговором ей была бы смерть. Но в великой милости своей и мягкосердечии они приговорили мистрис Принн всего лишь простоять три часа у позорного столба, а затем, и впредь до конца ее дней, носить на груди метку ее позора.
– Мудрый приговор, – отметил незнакомец, мрачно поникнув головой. – Так она будет живой проповедью против греха до тех пор, пока позорную букву не выгравируют на ее могильном камне. И все же меня раздражает мысль о том, что партнер ее по греху как минимум не стоит рядом с ней на позорном помосте. Но он станет известен – он станет известен! – станет известен!
Вежливым поклоном простившись с разговорчивым горожанином, он прошептал пару слов сопровождавшему его индейцу, и оба отправились прочь от толпы.
Пока он уходил, Эстер Принн стояла на эшафоте, не сводя глаз с незнакомца – он настолько приковал к себе ее сосредоточенный взгляд, что все иное перестало существовать для нее, оставив только их двоих. Однако подобная встреча наедине, возможно, была бы куда страшнее, чем даже нынешняя, когда яркое полуденное солнце жгло ей лицо и освещало ее позор, с алой меткой бесчестия на груди, с рожденным во грехе ребенком на руках, со всей этой толпой, которая собралась сюда, как на празднество, глазеть на то, что должно было быть видимо лишь в мягком свете камина, в счастливой тени дома, под почтенной церковной вуалью. При всем этом ужасе она осознавала, что присутствие тысяч свидетелей обеспечивает ей защиту. Лучше было стоять так, со столь многими между ними, нежели столкнуться с ним лицом к лицу наедине. Она искала спасения в публичном унижении и с ужасом ждала момента, когда защита этого наказания будет отнята у нее. Погруженная в свои мысли, она почти не слышала голоса, раздававшегося за ее спиной, пока тот не повторил ее имя несколько раз, торжественно и громко, чтобы расслышали все собравшиеся.
– Услышь меня, Эстер Принн! – говорил голос.
Как уже отмечалось ранее, прямо над эшафотом, на котором стояла Эстер Принн, находился своего рода балкон, открытая галерея, крепящаяся к стене молельного дома. То было место, откуда со всеми положенными церемониями того времени и в присутствии собрания городского магистрата провозглашались постановления властей. Здесь, чтобы наблюдать описываемую сцену, сидел сам губернатор Беллингем, и четыре сержанта с алебардами окружали его кресло как почетная стража. Шляпа его была украшена черным пером, плечи покрывал плащ с вышитой каймой, а под ним была надета бархатная туника – губернатор был джентльменом преклонных лет, и морщины его отражали тяжкий жизненный опыт. Он не так уж плохо подходил на роль главы и представителя общества, которое было обязано своим происхождением и развитием, нынешним положением не импульсам юности, а упрямой и умеренной силе мужества, хмурой мудрости возраста; многое достигнутое стало таковым именно благодаря малому воображению и надеждам. Другие высокопоставленные господа, которыми окружен был глава общины, отличались благородством мин, присущих тому периоду, когда любая форма власти воспринималась как ниспосланное свыше благословение. Они, без сомнения, были хорошими людьми, справедливыми и мудрыми. Но среди всего рода людского сложно было бы отобрать то же количество мудрых и праведных персон, менее способных судить об ошибках женского сердца и распутывать хитросплетения добра и зла, чем те мудрые строгие судьи, к которым Эстер Принн повернула свое лицо. Она, похоже, осознавала, что любое доступное ей сочувствие может искать лишь в куда большем и более теплом сердце людского собрания; поскольку, подняв свой взгляд к балкону, несчастная женщина побледнела и задрожала.
Голос, привлекший ее внимание, принадлежал преподобному и прославленному Джону Уилсону, старейшему пастору Бостона, великому ученому, как большинство современников, в том, что касалось богословия, и в целом мудрому и доброму человеку. Последние его качества, впрочем, были развиты гораздо меньше, нежели рассудочные таланты, и служили, скорее, причиной его стыда, нежели гордости. Он стоял на балконе, седеющие волосы выбивались из-под круглой шапочки, а серые глаза, привыкшие к полумраку кабинета, щурились от прямых солнечных лучей, совсем как глаза младенца Эстер. Он был похож на потемневший портрет, гравюру, которую можно встретить в старых томах проповедей, и у него было не больше прав, чем у гравюр, выходить вперед, как он только что сделал, и вмешиваться в вопросы человеческой вины, страсти и страданий.
– Эстер Принн, – сказал пастор. – Я здесь спорил с моим молодым собратом, чье проповедование Слова Божия ты была удостоена слушать, – с этими словами мистер Уилсон положил руку на плечо бледного молодого человека, сидящего рядом. – Я пытался, свидетельствую, убедить этого благочестивого молодого человека, что он должен разобраться с тобой, здесь, пред ликом Небес, и перед этими мудрыми и правдивыми правителями, в присутствии всех горожан, обличив всю черноту и мерзость твоего греха. Он ближе знаком с твоим характером, чем я, и мог бы лучше судить о том, какие аргументы, мягкость или ужас смогут преодолеть твое упорство и стойкость настолько, чтобы ты прекратила скрывать имя того, кто соблазнил тебя и способствовал прискорбному падению. Но он возражает мне, со всей излишней мягкостью юности, хоть он и мудр не по годам, полагая, что будет преступлением против самой природы женщины заставлять ее раскрыть все тайны сердца при свете дня и в присутствии такого количества людей. Поистине, я тщился убедить его, что позор лежит в совершении греха, а не в обличении его. Что скажешь ты на это, повтори, брат Диммсдэйл? Ты или я, кто должен разобраться с душой этой несчастной грешницы?
Среди сановников и облеченных духовным саном, сидящих на балконе, раздался ропот, и губернатор Беллингем выразил его своим зычным властным голосом, впрочем, не забыв уважительно обратиться к молодому священнику:
– Добрый мистер Диммсдэйл, – сказал он, – ответственность за душу этой женщины во многом возложена на ваши плечи. А потому именно вам надлежит склонить ее к раскаянию и исповеди, что доказала бы искренность первого.
Прямота этой речи заставила всех собравшихся обратить взгляды на преподобного мистера Диммсдэйла – молодого пастора, выпускника одного из величайших университетов Англии, который привез всю образованность того века с собой в земли диких лесов. Его красноречие и религиозный пыл уже позволили ему заслужить высокую оценку среди служителей церкви. Он был человеком крайне примечательной внешности, с белым, высоким, покатым лбом, большими карими меланхоличными глазами, с губами, которые, когда он не сжимал их с силой, стремясь удержать дрожь, выражали одновременно нервную чувственность и суровый самоконтроль. Вопреки природной его одаренности и ученым достижениям, было в молодом священнике нечто, создающее впечатление – помимо почти испуганного взгляда, – что он ощущает себя заблудшим, сбившимся с пути человеческого существования, и может испытать облегчение, лишь оставшись наедине с самим собой. Следовательно, покуда долг ему позволял, он шагал по тенистым окольным тропам, храня себя в простоте, подобно детям, и потому при случае он выступал с такой свежестью, благоуханием и бодрящей чистотой мысли, которая, как говорили затем многие, воспринималась ими как трубный глас ангела.
Таков был молодой человек, которого преподобный мистер Уилсон и губернатор так открыто представили публике, убеждая его обратиться в присутствии всех собравшихся к тайне женской души, священной даже в своем падении. Мучительная природа его положения заставила кровь отхлынуть от его щек, а губы вновь задрожать.
– Поговорите с женщиной, брат мой, – сказал мистер Уилсон. – Это важно для ее души и, следовательно, как говорит уважаемый губернатор, для твоей, поскольку твоей душе поручили ее спасти. Заставь же ее признаться в правде!
Преподобный мистер Диммсдэйл опустил голову, словно читая про себя молитву, а затем вышел вперед.
– Эстер Принн, – сказал он, склоняясь над перилами и неотрывно глядя в ее глаза. – Ты слышала слова этого доброго господина, видишь груз возложенной на меня ответственности. Если ты жаждешь обрести душевный покой, чтобы наказание земное с большей верностью послужило твоему спасению, заклинаю тебя назвать имя твоего сообщника во грехе, дабы стал он сообщником во страдании! Не стоит молчать из ошибочной жалости и нежности к нему, поверь мне, Эстер, ему было бы лучше сойти с возвышения и встать рядом с тобой, на помосте стыда, нежели скрывать до конца своих дней виновность своего сердца. Что может дать ему умолчание? Лишь искушение, истинный соблазн добавить лицемерие к своему греху? Небеса ниспослали тебе открытый позор, чтобы ты могла решиться и одержать победу над злом, сокрытым внутри тебя, и с печалью, что извне. Знай же, в чем ты отказываешь ему – тому, кто, возможно, просто не смеет сам протянуть руку, – в горькой чаше, которую ныне подносят к твоим губам!
Голос молодого священника дрожал, но он был сладок и глубок. Чувство, столь очевидно выраженное, сильнее всяких слов заставило трепетать все сердца, вызывая во всех слушателях искреннее сочувствие. Даже несчастное дитя у груди Эстер подверглось его влиянию, поскольку ранее безучастный взгляд ребенка обратился к мистеру Диммсдэйлу. Ребенок заворковал, протягивая к нему маленькие ручки с радостью и почти мольбой. Настолько силен был призыв священника, что все, кто слышал его, не могли не поверить, что Эстер Принн назовет имя виновного, или же сам виновный, сколь бы высокое или низкое положение он ни занимал, выступит вперед, повинуясь непреодолимому внутреннему порыву подняться на эшафот.
Эстер покачала головой.
– Женщина, не испытывай границ Небесного милосердия! – воскликнул преподобный мистер Уилсон резче, чем раньше. – Малое дитя на миг обрело дар голоса и подтвердило просьбу, которую ты слышала. Назови же имя! Признанием и покаянием ты можешь снять алую букву с груди.
– Никогда, – ответила Эстер Принн, глядя, однако, не на мистера Уилсона, а в глубокие беспокойные глаза молодого священника. – Слишком глубоко она выжжена в моем сердце. Вам ее не снять. Его же долю мучений я предпочту испытать сама.
– Говори, женщина! – новый голос, холодный и суровый, донесся из толпы у эшафота. – Говори и подари отца своему ребенку!
– Я не скажу! – ответила Эстер, побледнев как смерть, но отвечая этому голосу, который она, несомненно, узнала. – А мое дитя будет искать Отца Небесного, поскольку оно никогда не узнает земного!
– Она не скажет! – пробормотал мистер Диммсдэйл, который, перегнувшись через перила балкона и прижав руку к сердцу, ожидал результата своей мольбы. Теперь же он отстранился и долго выдохнул. – Поразительная сила и щедрость женского сердца! Она не скажет!
Осознав непоколебимое упорство несчастного заблудшего разума, старый священник, который тщательно готовился к данному случаю, обратился к собранию с обличением греха во всем его разнообразии, но постоянно припоминая позорную букву. Так сильно он упирал на этот символ, больше часа раскатисто вещая над головами толпы, что это вызвало новые ужасы в их воображении, и алый цвет метки стал неразрывно связан с огнями геенны огненной. Эстер Принн в это время оставалась стоять у позорного столба, с затуманенным взором и выражением усталого безразличия. В то утро она вынесла больше, чем может вынести человек, и не в ее характере было искать спасения от страданий в беспамятстве, а потому ее дух может лишь укрыться под каменной коркой бесчувственности, в то время как присущие животной жизни признаки оставались при ней. В подобном состоянии голос священника гремел неустанно, но не проникал в ее уши. Ребенок в последний момент ее наказания отчаянно кричал и плакал, она же механически пыталась укачивать дитя, но едва ли сочувствовала его беде. С тем же окаменевшим лицом ее проводили обратно в тюрьму, где Эстер исчезла с людских глаз за окованной железом дверью. Те, кто смотрел на нее, шептались потом, что алая буква освещала тьму тюрьмы живыми огненными отблесками.
4
Допрос
После своего возвращения в тюрьму Эстер Принн пребывала в состоянии нервного возбуждения, которое требовало постоянного внимания, иначе она могла бы причинить вред себе или в припадке полубезумия совершить нечто ужасное с бедным младенцем. С приближением ночи, убедившись в невозможности преодолеть ее непослушание уговорами или угрозами наказания, мистер Брекетт, тюремщик, счел необходимым пригласить врача. Он описывал последнего как мужчину, искушенного во всех христианских способах медицинских наук, но также знакомого со всем, чему дикари могут научить в использовании лечебных растений и корней, растущих в лесах. По правде говоря, в профессиональной помощи нуждалась не столько сама Эстер, сколько куда в большей степени ее дитя, которое, получая жизненную силу из материнской груди, похоже, впитало и все смятение, страдание и отчаяние, захлестнувшие материнское тело. Сейчас дитя извивалось в сильных судорогах от боли, вызванной теми моральными муками, которые Эстер Принн испытывала весь день.
Следом за тюремщиком в мрачной комнате возник тот самый человек, одно присутствие которого в толпе вызвало столь глубокий интерес в носительнице алой буквы. Он был размещен в тюрьме не потому, что от него ожидали беспорядков, а потому, что это был самый удобный и доступный способ избавиться от него до тех пор, пока магистрат не договорится с индейскими вождями о его выкупе. Имя его было объявлено как Роджер Чиллингворс. Тюремщик, пригласив его в камеру, остался на мгновение, удивляясь сравнительной тишине, последовавшей за его появлением; Эстер Принн немедленно застыла как мертвая, и лишь дитя продолжало стонать.
– Прошу, друг мой, оставьте меня наедине с пациентом, – проговорил врач. – Поверьте, добрый тюремщик, вскоре в ваших владениях воцарится спокойствие, и я обещаю, что миссис Принн отныне будет более послушна властям, нежели вы могли наблюдать это раньше.
– Нэй, если ваша милость сможет добиться подобного, – ответил мистер Брекетт, – я признаю вас истинным мастером своего дела! Эта женщина поистине ведет себя как одержимая, и я едва сдерживаюсь, чтоб не изгнать Сатану из нее плетями.
Незнакомец вошел в комнату со спокойствием, отличавшим представителей профессии, к которой он себя причислял. Не изменилось его поведение и после ухода тюремщика, оставившего его лицом к лицу с женщиной, чье завороженное внимание к нему еще в толпе знаменовало тесную связь между ними двумя. В первую очередь он осмотрел ребенка, чей плач и судороги на тюремной постели вынуждали отложить все иные дела на потом, после ее успокоения. Он осторожно обследовал ребенка, затем расстегнул кожаный несессер, который вынул из-под плаща. Внутри оказались медицинские препараты, один из которых он размешал в чашке воды.
– Мое старое изучение алхимии, – отметил он, – и пребывание более года среди народа, прекрасно разбирающегося в целебных свойствах растений, сделали меня лекарем лучшим, чем те, кто способен похвастаться медицинскими степенями. Вот, женщина! Ребенок твой – в ней нет ничего моего, – и она не узнает ни моего голоса, ни меня как отца. А потому поить ее ты будешь собственной рукой.
Эстер оттолкнула предложенное лекарство, в то же время с очевидным страхом вглядываясь в лицо врача.
– Ты отомстишь за себя невинному ребенку? – прошептала она.
– Глупая женщина! – ответил он, с равной степенью холода и утешения в голосе. – С чего мне вредить этому несчастному младенцу, рожденному вне закона? Лекарство сильное и должно помочь. Будь это мой ребенок – да, мой собственный, равно как и твой! – я бы не мог придумать средства лучшего.
Она все еще медлила, будучи, очевидно, в не самом ясном сознании, и тогда он взял младенца на руки и сам напоил его. Вскоре лекарство доказало свою эффективность, подтвердив заявления мучителя. Стоны маленькой пациентки стихли; конвульсивные метания практически пропали, и через несколько минут, как часто бывает с маленькими детьми после облегчения боли, дитя погрузилось в крепкий бодрящий сон. Врач, у которого оказалось полное право так именоваться, переключил свое внимание на мать. Со спокойствием и внимательностью он сосчитал ее пульс, заглянул ей в глаза – взглядом, который заставил ее сердце сжаться и содрогнуться, настолько знакомым, но странно холодным он был, – и наконец, удовлетворившись своим осмотром, он приготовил другое лекарство.
– Мне неведомы Лета[6] и Непенф[7], – заметил он, – но в глуши я выучил множество новых секретов, и вот один из них – рецепт, которому научил меня индеец в награду за то, что я сам преподал ему несколько уроков, старых, как сам Парацельс. Пей! Оно успокоит тебя чуть меньше, чем чистая совесть. Последнего я дать тебе не могу. Но оно успокоит бурные проявления страсти, как масло успокаивает волны бурного моря.
Он протянул чашку Эстер, которая приняла ее, пристально и серьезно вглядываясь в его лицо, в какой-то мере с выражением страха, но скорее с сомнением и вопросом об истинных его намерениях. Затем она обернулась на задремавшее дитя.
– Я думала о смерти, – сказала она. – Я желала ее, я бы даже молилась о ней, если бы мне подобным разрешалось молить о чем-либо. И все же, если в этой чашке смерть, я прошу тебя подумать снова, поскольку тебе придется наблюдать, как я выпью ее залпом. Смотри! Она сейчас у самых моих губ!
– Так пей же, – ответил он с тем же холодным самообладанием. – Неужто ты так мало знаешь меня, Эстер Принн? Разве мои замыслы могут быть так поверхностны? Даже составь я план мести, разве мог бы я придумать лучшую, чем позволить объекту моей мести жить – вместо того, чтобы дать ему лекарства против боли и страданий, – так, чтобы палящий стыд насквозь прожигал его грудь? – Говоря это, он прижал длинный палец к алой букве, которая действительно словно пылала на груди Эстер, подобная докрасна раскаленному железу. Он заметил ее невольное движение и улыбнулся. – А потому живи и неси с собой свой приговор, читай его в глазах мужчин и женщин и в глазах того, кого ты называла своим мужем, – даже в глазах своего ребенка! И, если собираешься жить, прими это лекарство.
Без дальнейших уговоров и промедления Эстер Принн осушила чашку и, повинуясь движению врача, села на кровать рядом со спящим ребенком. Он же подтащил единственный в комнате стул и уселся напротив. Она не могла сдержать дрожи, глядя на эти приготовления; она ощущала, что – сделав все, что человечность, принципы, или, что более вероятно, утонченная жестокость велели ему сделать для облегчения физических страданий, – в дальнейшем он собирается обращаться с ней как человек, которого она ранила глубоко и неисцелимо.
– Эстер, – сказал он, – Я не спрашиваю, где и как ты упала в эту яму или, точнее, как ты поднялась на эшафот к позорному столбу, у которого я тебя нашел. Причины мне очевидны. То была моя глупость и твоя слабость. Я – человек мысли, книжный червь величайших библиотек, уже растерявший силы, отдав лучшие годы на откуп голодной мечте о знании, что я мог сделать с юностью и красотой, присущих тебе? Урод от рождения, как я мог обманывать себя мыслью, что интеллект способен затмить физическое уродство в мечтах молодой женщины? Мужчины зовут меня мудрецом. Но, будь отшельники способны быть мудрыми себе во благо, я мог бы все это предугадать. Я мог бы предвидеть, что, когда выйду из безбрежного мрачного леса и войду в поселение христиан, первым, что увидят мои глаза, будешь ты, Эстер Принн, стоящая изваянием позора на виду у толпы. Нет, с того момента, когда мы вместе сошли по старым ступеням церкви, обвенчанная пара, я мог бы узреть сигнальный огонь алой буквы, манящий тебя к концу твоего пути!
– Ты знал, – сказала Эстер, поскольку, как бы подавлена ни была, ей было не вынести последнего молчаливого укола в метку ее стыда, – Ты знал и знаешь, что я была честна с тобой. Я не любила тебя, но не лгала тебе.
– Воистину, – ответил он. – То была моя глупость! И я об этом уже сказал. Но до той поры моей жизни я жил впустую. Мир был безрадостен! Сердце мое было достаточно велико, чтобы впустить многих гостей, но в нем царили одиночество и холод без домашнего очага. Я стремился его создать! И мечта казалась мне не такой уж дикой – при том, насколько я был стар, насколько я был мрачен, насколько искалечен, – о том, что простое блаженство, доступное повсеместно всему человечеству, может стать и моим. И потому, Эстер, я ввел тебя в мое сердце, в самую потаенную его часть, и пытался согреть тебя тем теплом, которое ты во мне разожгла!
– Я причинила тебе сильную боль, – пробормотала Эстер.
– Мы причинили боль друг другу, – ответил он. – Я ошибся первым, когда соединил твою цветущую юность фальшивой и неестественной связью с моим уродством. И оттого, как человек, который не зря размышлял и философствовал, я не ищу мести, не планирую причинять тебе зло. Чаши весов между нами уже в равновесии. Но, Эстер, есть человек, который причинил зло нам обоим! Кто он?
– Не спрашивай меня! – ответила Эстер Принн, твердо глядя ему в лицо. – Этого ты никогда не узнаешь.
– Никогда, говоришь ты? – подхватил он с мрачной улыбкой человека, привыкшего полагаться на собственный интеллект. – Никогда его не узнаю! Поверь мне, Эстер, слишком мало вещей в окружающем мире или, до определенной степени, в невидимой сфере мыслей – мало что сокроется от человека, посвятившего себя искренне и беззаветно решению этой задачи. Ты можешь скрыть любой секрет от любопытного общества. Ты можешь скрыть его от священников и магистрата, как уже сделала это сегодня, когда они пытались вырвать его имя из твоего сердца и отправить твоего любовника на эшафот. Но что касается меня, я приступаю к делу с чувствами совершенно не той природы, что у них. Я буду искать этого человека, как искал истины в книгах, как искал золото в алхимии. В нас есть родство душ, которое покажет мне его. Я увижу, как он дрожит. Я сам содрогнусь, внезапно и без причины. Рано или поздно я выявлю его.
Глаза морщинистого ученого сияли так ярко, что Эстер Принн непроизвольно прижала руку к сердцу, в ужасе представив, как он раскроет секрет прямо здесь и сейчас.
– Ты не откроешь его имени? И все же я узнаю его, – заключил он с такой уверенностью, словно сама судьба была на его стороне. – Он не носит позорной буквы на платье, как это должна делать ты, но я прочту ее в его сердце. Но не бойся за него! Не думай, что я стану вмешиваться в небесные способы наказания или, себе же во вред, отдам его в руки закона людского. И не думай, будто я стану что-то замышлять против его жизни, как и против славы, а он, насколько я могу судить, человек чистейшей репутации. Пусть живет! Пусть прячет себя во внешних почестях как может! Все равно он будет моим.
– Ты говоришь, словно о милосердии, – сказала Эстер, испуганная и потрясенная. – Но слова твои таят в себе ужас!
– Об одном лишь прошу я ту, что была мне женой, – продолжил ученый. – Ты сохранила тайну своего любовника. Сохрани также и мою! Никто в этих землях не знает меня. Ни слова, ни единой живой душе, о том, что ты когда-то звала меня мужем! Здесь, на диком краю земли, я поставлю свою палатку и, будучи странником, отрезанным от интереса людского в иных местах, здесь найду женщину, мужчину и ребенка, с которыми меня связывают тесные узы. Не важно, любви или ненависти, не важно, хороши эти узы или плохи! Ты, как и все твое, Эстер Принн, принадлежишь мне. Мой дом там, где ты, а твой – там, где он. Не смей меня предавать!
– Зачем же тебе желать подобного? – спросила Эстер, поежившись, сама не зная почему, от упомянутой тайной связи. – Почему не назваться открыто и заодно не избавиться от меня?
– Возможно, – ответил он, – потому что я не собираюсь терпеть бесчестья, которое сопровождает всех мужей бесчестных женщин. Возможно, по иным причинам. Достаточно, я уже решил, что жил и умру безвестным. Так пусть же останусь мужем, который для мира уже давно мертв и от которого никогда не придет ни весточки. Не узнавай меня ни словом, ни жестом, ни взглядом! И превыше всего – не выдавай моего секрета тому, с кем ты спуталась. А если предашь меня, берегись! Его слава, его должность, самая жизнь его будет в моих руках. Берегись!
– Я сохраню твой секрет, как сохранила его, – сказала Эстер.
– Поклянись! – потребовал он.
И она поклялась.
– А теперь, миссис Принн, – сказал старый Роджер Чиллингворс, как отныне он будет именоваться, – я оставлю тебя одну: наедине с младенцем и алой буквой! Каково это, Эстер? Приговор велел тебе не снимать этой метки даже во сне? Разве ты не боишься кошмаров или плохих снов?
– Почему ты так мне улыбаешься? – спросила она, с беспокойством следя за выражением его глаз. – Ты уподобился Черному Человеку, что обитает в лесу и охотится на нас? Или ты связал меня узами, которые наверняка разрушат мою душу?
– Не твою душу, – ответил он, еще раз улыбнувшись. – Нет, не твою!
5
Эстер и ее игла
Срок заключения Эстер Принн подошел к концу. Дверь ее темницы рывком распахнулась, и она вышла под лучи солнца, которое светило на всех одинаково, но ее измученному страданиями сердцу казалось, что нет у солнца иной задачи, кроме как высветить алую букву у нее на груди. Пытка первых ее шагов, без сопровождения, за дверь тюрьмы, была едва ли не сильнее даже описанных мучений процессии и спектакля с ней в роли общего позора, на который все человечество призвано было показывать пальцем. Тогда ее поддерживало неестественное нервное напряжение и полная сила ее боевитого характера, который позволил ей превратить ту сцену в подобие жуткого триумфа. Более того, то было отдельное и ограниченное событие, единственное в жизни, и, чтобы встретить его, пришлось забыть о бережливости и призвать на помощь жизненные силы, которых в ином случае хватило бы ей на много спокойных лет. Сам закон, приговоривший ее, – гигант со знакомым лицом, но с силой поддержать, равно как и уничтожить своей железной рукой, – поддерживал ее в том ужасном позорном испытании. Но сейчас, без надсмотрщиков покидая тюрьму, она шагала в повседневность, и ей нужно было либо собраться с остатками отведенных ей сил, либо сломаться под бременем. Она больше не могла брать силы из будущего, чтобы справиться с нынешними бедами. День завтрашний нес в себе новые испытания, и тем же грозили следующий день, и последующий, каждый нес в себе новые злоключения, очень похожие на то, что сейчас казалось ей невыносимым. Дни далекого будущего ждали ее, и все ту же ношу ей предстояло нести без надежды избавиться, а дни будут копиться и складываться в годы, внося свою лепту в ту гору позора, что рухнула на ее плечи. И каждый день самим своим существованием она будет служить общим символом, на который могут указать священник и моралист и который они могут вложить и приукрасить свои представления о женской слабости и грешной страсти. А потому молодых и чистых будут учить глядеть на нее, на алую букву, пламенеющую у нее на груди, – на нее, дочь достойных родителей, на нее, мать ребенка, который со временем превратится в женщину, на нее, что когда-то была невинна, – как на образ, тело, реальность самого греха. И над ее могилой позор, который она должна пронести всю жизнь, станет единственным ее надгробием.
Поразительным казалось то, что весь мир лежал перед ней. Осужденная лишь в пределах пуританского поселения, такого отдаленного и ограниченного, без запрета покидать пределы общины, она была вправе вернуться в родные места или уехать в любую другую часть Европы, скрыть там свою личность и прошлое, начав новую жизнь, буквально перейдя в иное состояние бытия. При том что перед ней открыты все пути темного таинственного леса, где ее дикая природа могла бы найти себе место среди людей, чьи привычки и жизнь чужды осудившему ее закону, воистину поражало то, что эта женщина все равно считала то место своим домом, веря, что там и только там она должна служить живым примером позора. Но в ней была обреченность, чувство настолько непреодолимое и неизбежное, что оно способно обрести силу судьбы, почти неизменно оставляющей человека прикованным к точке, в которой значимое и выдающееся событие придало новый цвет его жизни, и чем темнее оттенок, тем сильнее привязанность и печальнее эта картина. Ее грех и ее позор стали корнями, которые она пустила в эту землю. То было словно новое рождение, со связями более сильными, чем прежде, превратившими этот лесной край, столь чуждый прочим пилигримам и путешественникам, в дикий и мрачный, но вечный отныне дом для Эстер Принн. Все иные места земли – даже тот поселок в далекой Англии, где прошли ее счастливое детство и непорочная юность, оставшись в материнской памяти, как детские одежды, давно отложенные в сундук, казались ей чужими. Цепь, что приковала ее к этому месту, была железной, и, как бы ни язвили ее душу холодные звенья, она не могла разорвать их.
Возможно также – точнее, несомненно, хотя она держала это втайне от самой себя и бледнела всякий раз, когда секрет поднимал голову в ее сердце, как змея, выглядывающая из норы, – что иное чувство удерживало ее в пределах и на пути, что стали для нее столь фатальны. Здесь бродили и ступали ноги того, с кем она считала себя объединенной союзом, который, будучи не признан на земле, объединит их во время последнего суда, станет их венчальным алтарем и объединит их будущее в бесконечном искуплении. Снова и снова искуситель душ подбрасывал эти мысли в сознание Эстер и хохотал над отчаянной радостью, с которой она их принимала, лишь для того, чтобы заставлять себя их отбросить. Она едва взглянула в лицо этой идее и захлопнула перед ней тюремную решетку. То, в чем она себя убедила (что решила считать своим мотивом постоянного проживания в Новой Англии), наполовину было правдой, на вторую же половину – самообманом. Здесь, говорила она себе, было место ее прегрешения, и оно же должно служить местом ее земного наказания, а потому, возможно, пытки ежедневным позором со временем очистят ее душу, породив новую чистоту взамен той, что она потеряла: чистоту более праведную, поскольку та станет результатом мученичества.
Вот почему Эстер Принн не сбежала. На окраине городка, в границах полуострова, но в отдалении от всех других обиталищ, стоял маленький коттедж, крытый тростником. Он был построен предыдущим поселенцем, затем заброшен, поскольку почва вокруг была слишком скудна для земледелия, а относительная удаленность оставляла его вне сферы общественной активности, к которой уже тогда тяготели эмигранты. Коттедж стоял на берегу, с видом на залив и покрытые лесом холмы на другой его стороне, к западу. Несколько низкорослых деревьев, которые росли только на полуострове, не слишком скрывали коттедж, а наоборот, подчеркивали, что здесь пребывает некий объект, стремящийся или, по крайней мере, желающий быть сокрытым. В этом крошечном одиноком жилище, с небольшими своими сбережениями и по разрешению магистрата, все еще пристально присматривающего за ней, Эстер Принн и осталась жить со своим ребенком. Загадочная тень подозрений сразу же окутала это место. Дети, слишком юные, чтобы осознать, почему эту женщину следовало лишить человеческого милосердия, подбирались достаточно близко, чтобы различить ее за вышивкой у окна коттеджа, или в дверях, или возделывающей свой маленький сад, или шагающей по тропинке, ведущей в город, и бросались врассыпную, заметив алую букву на ее груди, подгоняемые странным и заразным страхом.
При всем одиночестве, в котором она оказалась без единого друга, осмелившегося бы ее посетить, Эстер, однако, не подвергалась нужде. Она владела искусством, которое даже в землях, оставлявших для него предельно малое место, позволяло ей заработать на хлеб себе и своему подрастающему ребенку. То было искусство, тогда, как и ныне, принадлежащее только женскому роду, – вышивка. Она носила на груди, в фантазийно расшитой букве образчик своего тонкого и изобретательного мастерства, которым придворные дамы с удовольствием бы украсили и себя, чтобы добавить глубоко одухотворенное украшение, созданное человеческой искусностью, к платьям из золота и шелка. Здесь же, в траурной простоте, которая в целом характеризовала всю пуританскую моду в одежде, на лучшие творения ее рук спрос мог быть крайне нерегулярен. И все же вкус той эпохи, требовавший вычурности в композициях подобного рода, распространил свое влияние и на наших упрямых прародителей, отказавшихся от такого количества роскоши, что с остатками распрощаться уже не могли.
Публичные церемонии, такие как посвящение в сан, введение на должность в магистрате, – все, что могло придать величие форме, в которой новое правление представляло себя людям, традиционно отмечалось торжественным церемониалом и мрачной, но преднамеренной пышностью. Широкие брыжи, болезненно тугие завязки, великолепно вышитые перчатки были предписанной необходимостью для облеченных официальной должностью и принявших бразды правления, что вполне позволяло людям гордиться рангом или богатством в то самое время, когда законы против роскоши запрещали подобную экстравагантность плебейскому сословию. В порядке похорон тоже – шла ли речь об украшении покойного или о множестве символических изобретений в виде траурных одеяний и батистовых рукавов, подчеркивавших печаль выживших – бывал довольно частый и характерный спрос на труд того рода, что могла предложить Эстер Принн. Детские пеленки – для детей, которым затем требовалась согласно эпохе и детская одежда, – также давали возможность труда и заработка.
Постепенно, мало-помалу, ее рукоделие стало тем, что ныне назвали бы модой. От сочувствия ли женщине подобной злосчастной судьбы, или же от нездорового любопытства, что придает фальшивую ценность даже обычным и бесполезным вещам, или по любому другому неосязаемому поводу, тогда, как и сейчас, достаточному для того, чтобы даровать кому-то то, чего иные напрасно ищут; или потому, что Эстер действительно восполнила пробел, остававшийся пустым, но у нее было ровно столько заказов, на столько часов, сколько она готова была посвятить вышиванию. Тщеславие, возможно, решило смирить само себя, надевая для напыщенных церемоний платья, украшенные искусством ее грешных рук. Ее рукоделие видели на брыжах губернатора, военные носили его на шарфах, священник на поясе, вышивка украшала детские чепчики, ее закрывали в гробах, чтобы предать тлению и распаду вместе с покойными. Но ни разу не было замечено, чтобы ее искусство было призвано для украшения белой вуали, что прикрывает чистый румянец невесты. Это исключение означало, что не стихала решительность, с которой общество осуждало ее грех.
Эстер не искала способов достичь чего-то помимо поддержания самой простой и аскетичной жизни для себя и простого достатка для своего ребенка. Ее собственное платье было сшито из самых грубых тканей самых печальных оттенков, с единственным украшением – алой буквой, которое ей суждено было не снимать. Детская же одежда, напротив, отличалась затейливостью или же, можно сказать точнее, фантастической оригинальностью, наверняка подчеркивающей очарование, которое рано начало проявляться в маленькой девочке, но при этом имевшей и более глубокое значение. О нем мы будем говорить немного позже. Помимо небольших расходов на украшение своего ребенка Эстер вкладывала все дополнительные средства в благотворительность, помогая грешникам, положение которых было еще хуже, чем у нее, и которые нередко кусали кормившую их руку. Немало времени, которое она могла с удовольствием посвятить лучшим образцам своего искусства, она тратила на пошив грубых одеяний для бедняков. Возможно, в том заключалась идея епитимии, и, посвящая себя на долгие часы такой грубой работе, она жертвовала возможностью провести их себе на радость. Ее природе были присущи богатство и страстность восточных черт – и вкус к прекрасному, который, помимо изысканных ее творений, не имел в ее жизни ни одной возможности проявиться. Женщины получают удовольствие, которое мужчинам не понять, от деликатной работы тонкой иглы. Для Эстер Принн это могло быть способом выразить и тем самым слегка утишить ее страстное желание жизни. Но, как и во всех остальных радостях, она отказывалась от искусства, считая его грехом. Подобное болезненное вмешательство совести в столь тонкие материи свидетельствовало, к сожалению, не об искреннем и стойком раскаянии, а о чем-то сомнительном, о чем-то крайне искаженном в самой основе своей.
И все же в этом Эстер Принн добилась своего места в мире. При ее врожденной силе характера и редких способностях ее нельзя было полностью отсечь от общества, однако мир поставил на ней метку, для женского сердца куда более невыносимую, чем печать Каина на челе. Во всех ее взаимодействиях с обществом, однако, ничто не могло даровать ей чувства собственной независимости. Каждый жест, каждое слово, даже молчание тех, с кем ей приходилось общаться, намекали, а зачастую и открыто объявляли, что она изгнана, что столь же одинока, как обитательница иного мира, или же воспринимающая общую природу иными органами и чувствами, нежели остальное человечество. Она стояла в стороне от общественных интересов, как призрак, что приходит к знакомому камину, но никак не может проявить свое появление: ни улыбнуться домашним радостям, ни грустить о жизненных горестях, ведь стоит призраку выразить вдруг свою запретную симпатию, и она вызовет лишь ужас и жуткое отвращение. Эти эмоции, равно как и горькое презрение, остались, похоже, единственным уделом Эстер в этом мире.
То был суровый век, и ее положение, которое она слишком хорошо сознавала и не могла даже надеяться позабыть, зачастую ей приходилось ощущать слишком живо, и всякий раз мука была словно внове, как грубейшее прикосновение к самому нежному месту. Бедняки, как мы уже говорили, которых она пыталась облагодетельствовать, часто отказывались принимать протянутую ею руку помощи. Дамы ее сословия, в чьи двери она входила по пути к месту своего обитания, привыкли цедить капли горечи в ее сердце; порой посредством той алхимии тихой злобы, что женщины используют для вытяжки яда из ничтожных безделиц; а иногда и более грубыми выражениями, что проходились по сердцу беззащитной страдалицы как грубый удар по изъязвленной ране. Эстер закаляла себя долго и небезуспешно, она никогда не отвечала на подобные нападки иначе, чем румянцем, неудержимо поднимавшимся по ее бледным щекам и опускавшимся в глубины корсажа. Она была терпеливой – воистину мученицей, но не решалась молиться за своих врагов, по крайней мере пока, несмотря на попытки их простить, вымученные слова не перестанут упрямо превращаться в проклятия.
Постоянно тысячами всевозможных способов настигали ее уколы страданий, к которым приговорил ее хитроумный приговор пуританского трибунала, не знающий устали. Священники останавливались на улицах, чтобы обратиться со словами наставления, это собирало толпу, которая улыбалась и хмурилась вокруг несчастной грешницы. Если она входила в церковь, в надежде разделить воскресную улыбку Творца, зачастую она обнаруживала себя в тексте проповеди. В ней начал расти страх перед детьми, поскольку те подхватили у родителей смутную идею о том, что нечто ужасное сокрыто в этой безрадостной женщине, которая молча бродит по городу в одиночестве или в компании единственного ребенка. А потому, поначалу позволяя ей пройти, они преследовали ее в отдалении с пронзительными криками и повторениями слова, которое ничем не откликалось в их умах, но оттого не менее ужасало ее, в особенности потому, что слетало с их губ бессознательно. Слово, символизирующее ее позор, похоже, разлетелось так широко, что стало известно всему живому; ей уже не стало бы больнее, если бы листья на деревьях шептались о ее темной истории, если бы летний бриз шелестел о ней, если бы метель вопила о том во всю мощь! Еще одной особой пыткой было ощущение того, что все на нее смотрят иначе. Незнакомцы с любопытством приглядывались к алой букве, все до единого – и тем обновляли клеймо на душе Эстер, а потому она с трудом могла удержаться и все же всегда воздерживалась от попыток закрыть рукой позорный знак. Но и привычные взгляды знакомых причиняли не меньше страданий. Холодный фамильярный взгляд невозможно было вынести. И от первых, и от последних Эстер Принн всегда испытывала ужасную агонию чувств, ощутив на себе чьи-то взгляды, и чувствительность ее не только не грубела, а наоборот, с каждым днем непрерывной пытки становилась все более глубокой.
Но иногда, порой раз в несколько дней, а чаще раз в несколько месяцев, она ощущала, что взгляд, человеческий взгляд, упирается в позорное клеймо и приносит ей мгновенное облегчение, словно беря на себя половину ее страданий. А в следующий миг боль возвращалась к ней с новой силой, поскольку в те краткие моменты она грешила снова. (Но разве грешила одна Эстер?)
Ее воображение тоже играло свою роль, и, будь ее мораль и интеллект сотканы из более мягкой ткани, роль эта была бы куда большей, в одиноком страдании ее жизни. Прогуливаясь туда и назад, в одиночестве, в маленьком мире, который был опечатан снаружи, Эстер то и дело думала – точнее, ей казалось, но мысль была слишком мощной, чтобы ей противостоять, – что алая буква наделила ее новым чувством. Она содрогалась от мысли, но не могла не верить в то, что метка дала ей симпатическое знание о грехах, сокрытых в сердцах других. Она была в ужасе от озарений, посещавших ее. Что же это было? Чем это могло быть, кроме как коварными шепотками падшего ангела, который пытался убедить страдающую женщину, лишь наполовину ставшую его жертвой, в том, что внешний блеск чистоты – это ложь, а будь истина открыта повсюду, алые буквы сияли бы на корсажах столь многих помимо самой Эстер Принн? Или же те откровения – такие смутные и в то же время столь отчетливые – являлись правдой? Во всем ее горестном существовании не было ничего хуже и отвратительней этого чувства. Оно сбивало с толку и шокировало ее, выбирая самые неподходящие моменты для своего проявления. Иногда алый символ позора на ее груди начинал симпатически пульсировать, когда она проходила мимо почтенного священника или чиновника, олицетворений чистоты и справедливости, на которых обычные люди глядели как на образец, как смертные могут смотреть на ангела. «Что за грешник шагает мимо?» – думала тогда Эстер. И, неторопливо подняв глаза, понимала, что рядом нет ни единой живой души, кроме упомянутого праведника! И вновь загадочное сродство напоминало о себе, когда она встречалась с высокомерным презрительным взглядом почтенной матроны, которая, судя по слухам, всю жизнь отличалась белоснежной репутацией. Так что же могло быть общего у этого нетронутого снега и пылающего стыда Эстер Принн? О, и снова электрический ток предупреждал ее: «Смотри, Эстер, вот такая же грешница!», а подняв глаза, она замечала, как юная девушка искоса бросает застенчивый взгляд на алую букву и тут же отворачивается, покраснев, словно мимолетное зрелище могло запятнать ее чистоту. О Враг рода людского, чьим талисманом был тот фатальный символ, неужто ты готов был лишить любого, и юного, и почтенного, благоговения в душе этой грешницы? Такая утрата веры бывает самым печальным результатом греха. Но в доказательство того, что бедная жертва не была испорчена ничем, кроме собственной хрупкости и суровых людских законов, стоит сказать, что Эстер Принн все же старалась верить, что ни один смертный не был столь виновен, сколь она сама.
Мещане, которые в те мрачные старые времена всегда приписывали гротескные ужасы всему, что интересовало их воображение, рассказывали историю об алой букве, которую мы могли вполне превратить в ужасающую легенду. Они утверждали, что символ состоит не просто из алой ткани, окрашенной в земной красильне. Он покраснел от адского пламени, и отсвет геенны все еще светился, когда Эстер Принн куда-то выходила по ночам. И стоит признать, что позорная метка так жгла грудь Эстер, что, возможно, в этом слухе было больше правды, чем способны признать наши скептично настроенные современники.
6
Перл






