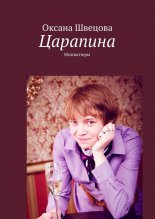Адмирал Советского Союза Кузнецов Николай

Часть I Накануне
Предисловие автора
Мне не пришлось менять профессии в поисках дела, которое оказалось бы больше по душе. Вся моя жизнь связана с Советским Военно-Морским Флотом. Я сделал выбор однажды, в совсем юные годы, и никогда не жалел об этом.
Пятнадцати лет – в те годы еще продолжалась гражданская война – пошел на флот добровольцем. С тех пор минули десятилетия. Я был свидетелем того, как в двадцатых годах наш флот, потерявший в гражданскую войну большинство кораблей и многих опытных специалистов, переживал напряженный период становления. По существу, нам пришлось начинать с азов морской службы. На моих глазах советский флот рос, набирался сил, мужал. Росли и мужали наши замечательные флотские кадры – командиры, инженеры, матросы. Со многими я бок о бок прошел службу на боевых кораблях. Делил с ними все: и радость, и невзгоды. Ведь служба на корабле – это нелегкий труд.
За годы морской службы мне довелось встретить немало интереснейших людей. Одни занимали совсем скромные посты, другие командовали соединениями и флотами, а некоторые вершили государственные дела. Обо всех этих людях, обо всем, что пережито, хотелось бы рассказать.
Большую часть этой книги я посвятил тому периоду, который предшествовал Великой Отечественной войне.
Есть события, не стирающиеся в памяти. И сейчас, четверть века спустя, я отчетливо помню трагический вечер и ночь на 22 июня 1941 года. Уже за два дня перед тем наши морские силы были приведены в повышенную боевую готовность. Мы сделали это, не получив официального предупреждения о возможности войны и разрешения применять оружие. Указания последовали лишь около полуночи, когда до начала боев оставалось несколько часов. К счастью, флоты находились уже наготове, и в ту роковую ночь мы не потеряли ни одного боевого корабля.
Человек, посвятивший себя службе в Вооруженных Силах, естественно, думает о войне постоянно. В мирную пору, пока военная гроза далека и тучи международных осложнений не закрывают горизонта, эти думы носят довольно отвлеченный, я бы сказал, теоретический характер. Но они воплощаются в конкретных решениях и поступках, когда угроза войны становится реальной и близкой.
Многое зависит от места и положения, которое занимает человек. Когда я начинал службу краснофлотцем на Северо-Двинской флотилии, от меня, в сущности, требовалось только быть готовым выполнить приказ командира, не больше. Другими стали мои заботы, когда, окончив училище, сам стал командиром артиллерийского плутонга, затем – помощником командира корабля. Но мысли о будущей войне и в то время носили еще очень общий характер. После окончания Военно-морской академии начал командовать крупным кораблем. Тут уж было недостаточно держать свое оружие в порядке и уметь метко стрелять, если прикажут. Надо было разбираться в обстановке на всем морском театре и отчетливо представлять себе возможные боевые операции в масштабах целого флота.
Жизнь сложилась так, что круг моей ответственности и моих забот стал возрастать как раз в самые неспокойные, предвоенные годы. Я участвовал в гражданской войне в Испании – был там советским военно-морским атташе и главным морским советником. В пору хасанских боев командовал Тихоокеанским флотом. В 1939 году получил назначение на работу в Москву, и на меня легло руководство Наркоматом Военно-Морского Флота. А как известно, обстановка была такова, что уже тогда требовалось считаться с опасностью прямого военного нападения фашистской Германии на нашу страну.
Когда вспоминаешь то время, неизбежно возникают вопросы. Почему нападение гитлеровской Германии оказалось для нас внезапным, застигло наши Вооруженные Силы врасплох, хотя правительство уделяло огромное внимание обороноспособности страны, повышению ее могущества и укреплению границ? Почему И. В. Сталин вопреки многочисленным фактам до последнего часа не хотел верить в возможность скорой войны? Почему не обращалось должного внимания на то, что Гитлер сосредоточивает всё новые дивизии на наших границах? Почему не принимались решительные ответные меры?
На это не ответишь несколькими словами. Тут надо многое сопоставить, взвесить, на многое требуется взглянуть сквозь призму прошедших лет. Думается, эти вопросы интересны не одним историкам. Не берусь дать исчерпывающий анализ событий тех трудных и сложных лет. Хочу только поделиться некоторыми своими мыслями.
Опытом минувшего освещается настоящее и будущее. Сегодняшняя международная обстановка напоминает, как мне думается, годы между первой и второй мировыми войнами: на Западе происходит непрерывный рост военных расходов, увеличивается численность вооруженных сил, большая доля производительных сил идет на изготовление средств уничтожения и разрушения. Великие научные открытия, сделанные за последние десятилетия, – атомная энергия, электроника, ракетная техника и многие другие, – которые могли бы принести огромную пользу человечеству, к сожалению, направляются для целей возможной будущей войны. Возникли агрессивные блоки. Германский милитаризм уже рвется к ракетно-ядерному оружию. Новая война, если империалисты ее развяжут, будет протекать совсем не так, как прошлые. Новое оружие – оружие массового уничтожения и моментального действия – определит и характер грядущих сражений. Они станут несравненно скоротечнее и сокрушительнее, охватят сразу большие пространства земного шара не только по фронту, но и в глубину. Военные теоретики, размышляя о будущей войне, придают огромное значение не только ее первым дням, но даже часам и минутам. Поэтому уроки неудачного для нас начального периода минувшей войны сегодня особенно важны.
Своим героизмом и самоотверженностью, ценой неимоверного напряжения сил и величайших жертв советский народ под руководством Коммунистической партии добился победы в Великой Отечественной войне и тем самым спас человечество от угрозы фашистского порабощения. Ныне Советский Союз вместе со всеми странами социализма прилагает огромные усилия, чтобы предотвратить пожар новой мировой войны.
Предвоенный период и начало войны, о чем я пишу, – всего лишь один из этапов невиданного в истории вооруженного столкновения. Мои воспоминания – это не детальный анализ предвоенного периода и даже не исторический очерк, а лишь обыкновенные человеческие раздумья. И если они побудят читателя глубже осмыслить события тех лет, я буду считать, что труд мой не пропал даром.
Флоту быть!
Родное прошлое
Память сохранила в моей душе воспоминания о родной деревне не суровые, а скорее нежные – цветущие заливные луга, аромат свежего сена.
Родился я 24 июля 1904 года на Севере в суровом краю трудолюбивых людей, сдержанных и добрых, в крестьянской семье. Деревня Медведки, раскинувшаяся в низине между речкой Ухтомка, впадающей в Северную Двину, и густым вековым лесом, находилась в 25 километрах от города Котлас и была оторвана от всего мира. Старики рассказывали, что деревню назвали Медведками потому, что когда-то давно возле ее околицы бродили медведи да волки. Так, наверное, и было.
Новые дома стали строиться на горе. Туда постепенно переселялись все из старой деревни. И наша изба стала мала для разросшейся семьи. Она простояла, очевидно, полсотни лет. Выстроена была еще моим дедом из толстенных бревен. Такие рубленые высокие дома с подклетями строились в дореволюционной северной стороне.
Мне было четыре года, когда наша семья переселялась на другое место, в новый дом. Отлично помню день переезда. По старому обычаю, все двинулись к новому дому, неся с собой нехитрый скарб – кто что. Я нес помело и замыкал шествие. Мне сказали, что на помеле должен сидеть домовой, который всегда живет где-то под печкой и в день переезда последним покидает старое пепелище. Я ехал на длинном шесте, как на коне, не без робости, но и не без детской гордости.
Годом позже, весной, наша речушка Ухтомка настолько разбухла от половодья, что однажды прорвала плотину и разрушила деревенскую мельницу – кормилицу окрестных крестьян. Это запомнилось на всю жизнь. Взрослые побежали туда. Дети и подростки тоже бросились к мельнице. Все были поражены увиденным. Еще вчера там был большой пруд, к берегу которого мы, маленькие, боялись даже подойти близко, а теперь можно было увидеть лишь речку Ухтомку, прижавшуюся к одному берегу, да отдельные лужи-озерки, в которых оставалась вода. Мы бежали туда за старшими ребятами, проваливаясь по колено в жидкую грязь. В озерках осталось много рыбы – щук, карасей. Вот и охотились за ней старшие ребята. Способ ловли был прост: мутили воду ногами, перемешивая ее с илом, рыба бросалась к берегу, тут ее и хватали и «старые» и «малые». Целую неделю мы бегали туда, пока взрослые не починили плотину и не восстановили мельницу.
Очень хорошо запомнился сенокос. Это был праздник для всех, а для нас, мальчишек, особенный. Все жители деревни собирались на сенокос. Женщины заготовляли продукты, пекли пироги. Девушки брали лучшие платья, парни – гармошки. С каким удовольствием перебирались за Северную Двину на больших лодках – карбасах – устойчивых, с широким днищем и несколькими веслами! На них перевозили все: и лошадей, и телеги, и скарб. Дунет ветер, приподнимет короткую крутую волну, нагонит тучу – девушки и женщины переполошатся, а озорные гребцы норовят поставить свою посудину лагом к волне, чтобы сильнее качнуло. Нам, мальчишкам, хорошо и весело.
Перебравшись на другой берег, первым делом начинали строить шалаши. Для этого выкашивали траву, ставили колы от ивы, переплетали их душистой травой, оставляя небольшой лаз. На ночь залезали туда. Лаз закрывали сеном – это спасало от комаров, а в жаркую погоду там было прохладно.
Мужчины косили, женщины и девушки ворошили сено граблями и собирали в копны. На долю ребят выпадало возить свежее ароматное сено и водить в ночное лошадей.
После ужина молодые веселились. Всю ночь играла гармонь, пели песни. Утром вставали рано. Пожилые ворчали на невыспавшуюся молодежь, с трудом поднимавшуюся на работу.
А если погода портилась и шли долгие дожди, взрослые уезжали в деревню – работы там всегда было много. Тогда мы, ребята, оставались одни. Раздолье! И дожди нипочем.
Вечерами собирались у костра и пускались рассказывать кто что мог. С огромным вниманием слушали мы наших дедушек, которые тоже не уезжали в деревню и часто коротали с нами ночь у костра. Они рассказывали нам легенды о нашем крае. Особенно интересны были сказы о Северной Двине, о Тотьме с ее храмами на берегах Сухоны, похожими на корабли с колокольнями-мачтами, плывущими по реке. Оттуда тотьменские мореходы и землепроходцы отправлялись на восток через студеные моря, добирались до берегов Америки. Они были среди тех, кто в 1741 году открывал Аляску, кто потом ставил первые избы в Калифорнии. Слушали мы и об Архангельске, куда приходили большие корабли и пароходы из других стран, о Соловецком монастыре, о том, как отцы и деды ездили туда поставить свечку за выздоровление или просить прощение за грехи, прихватив с собой десяток аршин холста в пользу монахов.
У меня от таких рассказов замирало сердце. Я поражался всему и мечтал повидать свет, дальние страны, но об этом я боялся сказать даже своим сверстникам. В ту пору каждый день приносил что-то новое, приоткрывая окошко в большой мир.
Крестьянская жизнь приучала нас к труду с малолетства. Отец мне запомнился только больным. Я как мог старался помогать матери. Ей с двумя малолетними сыновьями и отцом, который в поле работать не мог, приходилось нелегко.
Ходил я по грибы, ягоды. Особенно любил собирать рыжики – у нас их обычно солили на зиму целыми кадками. Мать часто поджаривала их с картошкой, притомив в русской печке. Я очень любил это кушанье. Из ягод больше всего собирали бруснику. На зиму ее тоже замачивали в большой кадке. Чтобы заполнить кадку до краев, потрудиться приходилось на совесть. Этой наукой овладевали все наши деревенские мальчишки задолго до школы.
Всеми крестьянскими работами занимались мать и брат Савватий, тремя годами старше меня. Помнится, как отец сокрушался, что Савватию соха не под силу, и мечтал купить ему плуг. Когда плуг был куплен, отец повеселел и, с облегчением вздохнув, сказал: «Вот теперь я спокоен, с землей сынок справится».
Никогда не забуду, когда соседка, горестно глядя на меня, сказала: «Иди домой». Я сразу почувствовал, что случилось что-то непоправимое… «Умер-то не вовремя, в самую страдную пору», – услышал я, входя в дом. Умер мой отец Герасим Федорович летом 1915 года. Похоронили его на кладбище в пяти километрах от нашей деревни.
Меня решили отдать «в люди». Вместе с матерью я зашагал по шпалам в Котлас. Мать упросила хозяина чайной у речной пристани, купца Попова, взять меня в услужение. Я должен был мыть посуду, прибирать кухню и не заходить на «чистую» половину. От этой работы у меня осталось неприятное воспоминание. Вечером я засыпал, когда нужно было еще работать, а рано утром меня будили, когда очень хотелось спать и глаза не открывались. К счастью, работать в этой чайной мне долго не пришлось. Скоро меня позвали на «чистую» половину к горожанину, очень похожему на моего отца. Это был мой дядя Павел Федорович. Он сказал: «Нечего тебе тут торчать, поедешь со мной. Собери вещички и приходи на пристань, поедем в Архангельск, будешь жить в моей семье, помогать по хозяйству и учиться».
С неба свалилось невиданное счастье. Я воображал, как поплыву вниз по Северной Двине на одном из больших и красивых пароходов, ожидающих у пристани. Но дядя провел меня мимо этих пароходов к сходне, брошенной с колесного буксира «Федор» прямо на песчаный берег. Мы прошли в каюту. «Поедем до Шенгурска без барж, а там подхватим одну – и быстро будем дома», – сказал дядя.
Я с удовольствием расположился среди буксирных тросов и кип льна на широкой расплющенной корме. Так началось мое первое в жизни дальнее плавание. А что же? И верно, дальнее для меня плавание, первая отлучка от родного дома в далекий Архангельск, о котором я много слышал в деревне и куда в тайных мыслях помышлял попасть.
В памяти остались сочувствующие мне матросы, блеск работающих шатунов паровой машины и ее натруженное дыхание, шлепанье колесных лопастей и продолговатая гиря на конце длинней веревки – ее метал в воду с носа буксира матрос, выкрикивая какие-то не понятные мне слова, к которым внимательно прислушивался капитан. Позже я узнал, что матрос измерял лотом глубину реки.
Семья у дяди была большая – два сына и три дочери. Все они учились в гимназии. Встретили меня радушно. Павел Федорович очень любил детей, устраивал нам веселые праздники. Жили мы дружно. Часто в дом приходили торговые моряки, рассказывали о плаваниях, а в год перед революцией я услышал от них и о страшных германских подводных лодках, выпускающих из-под воды в торговые суда смертоносные мины.
Ходил одну зиму в школу с двоюродным братом-одногодкой Федей, много читал, полюбил книги о первооткрывателях дальних стран. Но я понимал, что жить в семье даром, ничего не делая, нельзя, поэтому старался изо всех сил помогать по хозяйству. Часто ходил в город, выполняя мелкие поручения дяди. Дел с каждым днем прибавлялось, и школу мне пришлось бросить. Захотелось стать самостоятельным, устроиться куда-нибудь на работу. По моему росту мне всегда давали на два-три года больше.
Поговорив с дядей и получив его согласие, я с его же помощью устроился в Управление работ по улучшению Архангельского порта. Меня приняли без больших расспросов, убедившись, что я хорошо знаю город, а стало быть, в состоянии выполнять работу рассыльного. Так в двенадцать лет началась моя самостоятельная трудовая деятельность.
В годы первой мировой войны в Архангельск стало поступать много грузов. Пришлось строить причалы и аванпорт «Экономия» в двадцати верстах от города, у выхода в Белое море, – там можно было обойтись зимой без ледоколов. В тех местах приходилось бывать и мне. Так в отрочестве я все ближе подходил к морю. Меня даже взяли однажды на промысел рыбаки – впередсмотрящим на шхуне. Я выстоял на носу шхуны в шторм, не укачался, и старый рыбак похвалил: «Да ты, брат, и не укачиваешься! Будешь добрым моряком».
А тут пришла одна революция, другая: я слышал споры (то громкие, то полушепотом) инженеров и подрядчиков в управлении. Одни были за большевиков, другие против. Споры эти не раз вспоминались мне, когда много позже я смотрел пьесу Бориса Лавренева «Разлом». «Декорации» были другие, а содержание – то же. Меня же в те годы интересовала только форма происходящих событий, в суть их я тогда не вникал. Я старался уходить на улицу, бродил по набережной Северной Двины или уезжал вместе с друзьями в Соломбалу, где можно было оказаться свидетелем необычных событий. А их в те годы происходило много: то рвались бочки с бензином на складах почти в центре города, то взорвался груженный боеприпасами огромный транспорт «Семен Челюскин», а потом несколько дней взлетали на воздух военные склады в аванпорту «Экономия». Гул далеких взрывов доносился до города, было много жертв. А однажды из Мурманска дошел слух о высадке там десанта интервентов. Так оно и оказалось. Чрезвычайная комиссия приказала экстренно начать разгрузку порта и вывоз боеприпасов и военного снаряжения вверх по Северной Двине в Котлас для отправки оттуда на другие фронты. Вывезти все в Котлас удалось, несмотря на саботаж и сопротивление эсеров и меньшевиков, но вскоре и Котлас оказался под ударом.
Каждое лето я уезжал в деревню помогать матери и брату в поле. Осенью возвращался. В июне 1918 года я, как обычно, уехал домой в Медведки, а в июле в Архангельске высадились англичане, французы и американцы. Они быстро создали свою военную флотилию и устремились к Котласу. Это тогда в телеграмме Михаилу Сергеевичу Кедрову, участнику трех революций, члену Всероссийского бюро большевистских военных организаций, Ленин приказывал: «Послать туда немедленно летчиков и организовать защиту Котласа во что бы то ни стало».
Герой гражданской войны рабочий Павлин Виноградов организовал Северо-Двинскую флотилию. Она вместе с Красной Армией остановила вооруженные суда и войска интервентов, не допустила их в Котлас, сохранила склады оружия и боеприпасов.
Я знал, что в Архангельске оккупанты, что идет кровавая война за Советскую власть, большевиков арестовывают и заключают в плавучие тюрьмы. В окрестностях Котласа осенью и зимой собирали жителей деревень для рытья окопов. Живя в Медведках, от всего этого я был далек. Работал на мельнице.
Осенью 1919 года я снова попал в Котлас. На этот раз мать отвела меня к своему брату Дмитрию Ивановичу Пьянкову, осмотрщику вагонов на железной дороге. Пьянков обещал пристроить меня в депо, сказал «Жди» и уехал с составом товарняка в рейс. А я, проводив мать в деревню, – тут же к реке, к пароходам. Там встретил военного моряка, только не в бушлате, а в черной скрипучей коже с головы до ног. Все ему о себе рассказал, получил адрес нужного начальника, не зная, что им и был он сам. От него я услышал добрый совет: идти добровольцем на флотилию. Одно только меня смутило. Начальник сказал: «Возьми справку о годе рождения, тебе, видно, лет семнадцать». А мне было всего пятнадцать. Вот тогда я и прибавил себе два года, упросив в сельсовете написать мне справку с 1902 годом рождения. Так я стал добровольцем Северо-Двинской флотилии. Мой дядя не дождался меня, но вряд ли рассердился – он ведь сам в прошлом был кронштадтским матросом.
Встреча с революционными моряками определила мою дальнейшую судьбу. Как в другой мир попал я, готовый немедленно идти в бой. Но тот же начальник, весь в кожаном, усадил меня как более грамотного перестукивать на грохочущем «Ундервуде» секретные и совершенно секретные донесения с фронта. Только к концу 1919 года я выпросился на канонерскую лодку, в боевой экипаж. А 21 февраля 1920 года советские войска вышвырнули интервентов из Архангельска. За это время я многое узнал о революции, о ее друзьях и врагах, о плавающих тюрьмах, затопленных интервентами вместе с узниками, о гибели в бою Павлина Виноградова, о покушении на Ленина, об убийстве Урицкого, Володарского, о бандах белогвардейца Орлова в Усть-Сысольске (это совсем рядом), о батарейцах знакомого мне острова Мудьюг, которые встретили огнем британскую авиаматку «Аттентив», о расправе англичан с ними на острове, превращенном в каторгу, о матросе Петре Стрелкове, который вывел каторжан на материковый берег по сухому морю – так называли осыхающий пролив. Все становилось на свое место, все оседало в душе, в памяти, проясняло сознание, формировало взгляды на мир. «Владыкой мира будет труд!» – эти удивительные слова глубоко проникли в мое сердце и стали компасом на всю жизнь. Разве все расскажешь…
Воевать много не пришлось: весной советские войска освободили от интервентов Архангельск. Северо-Двинская военная флотилия выполнила свою задачу, ее расформировали, но нас, молодых матросов, оставили продолжать службу.
Помню, как бывший ораниенбаумский стрелок Алабин водил нас строем по улицам Архангельска и учил старым флотским песням. «Пиллерсы, бимсы ломая, мостик и борт разрушал…» – пели мы, налегая на каждое слово, подчас не понимая его значения. Незаметно прошли отведенные на строевую подготовку шесть месяцев, и нас направили в Петроград. В это время открылась подготовительная школа (она размещалась в бывшем Гвардейском экипаже) для поступающих в военно-морское училище. Меня зачислили на самый младший ее семестр. С моим образованием – три класса церковноприходской школы – на большее рассчитывать не приходилось.
На склоне лет с особым чувством вспоминаешь молодость, когда был полон энергии, когда сил хватало, даже с избытком, на все, когда происходящее с тобой и вокруг тебя представлялось необычайно интересным, а завтрашний день сулил еще больше. Должно быть, потому так памятны курсантские годы.
В конце 1922 года из подготовительной школы меня перевели в военно-морское училище. В том же году состоялся первый выпуск молодых красных командиров.
Рассчитанное в прошлом на шесть рот кадетов и гардемаринов, училище свободно размещало теперь четыре небольших курса.
Более двух с половиной веков назад, 14 января 1701 года, когда выход на морские просторы стал для России настоятельнейшей необходимостью, был издан указ, в котором говорилось: «В государствии… быть математических и навигацких, то есть мореходных, хитростно искусств учению…»
Навигацкую школу, которая должна была готовить людей «искусных в кораблестроении и мореходстве», Петр I организовал в Москве. Затем ее перевели в Петербург и переименовали в Морскую академию.
Размещалась академия сперва в доме Кикина. Позже на этом месте построили Зимний дворец. В середине XVIII столетия академию перевели в двухэтажный дворец фельдмаршала Миниха, где и застала ее Октябрьская революция. К тому времени академия называлась Морским корпусом. В его стенах получали образование потомки именитых русских дворян – оплот царского самодержавия. Февральскую революцию они встретили враждебно: 17 марта кадетов и гардемаринов пришлось разоружать. В мае в здании Морского корпуса выступил Владимир Ильич Ленин. Он рассказал питерским трудящимся об Апрельской конференции РСДРП(б).
После Октября в классы бывшего Морского корпуса пришли бывалые матросы, участники революции и гражданской войны.
Ко времени моего поступления в училище были уже утверждены программы нормального трехлетнего обучения.
Итак, моя мечта – навсегда связать свою судьбу с флотом – обрела реальность. Желтое здание бывшего Морского корпуса стало моим домом. Не сразу привыкли мы к этому новому для нас жилищу. Посудите сами. В спальнях на спинках кроватей еще красовались аккуратно выведенные белой краской титулы графов и баронов. И вот вместо потомка родовитых баронов Ливенов сюда пришел простой крестьянин.
Даже учебники сохранили имена бывших владельцев. На некоторых оставили свои автографы внуки или правнуки известных русских флотоводцев, например Г. И. Бутакова. Это лестно. Но кому-то попался учебник по навигации с надписью Колчака. Помнится, мы гадали: не адмирал ли это Колчак, который в дни Февральской революции командовал Черноморским флотом, а в годы гражданской войны стал отъявленным врагом молодой Советской Республики?
Зато тетради нам выдали новехонькие. На обложке было напечатано стихотворение Д. Бедного:
- …Он молод, но уже зубаст,
- И коли что, врагу он сдачи даст,
- Нам Англия грозит,
- Что ж, это нам не внове,
- Учитесь, моряки, и будьте наготове…
В те годы лорд Керзон в своих нотах действительно угрожал Советской Республике, и Демьян Бедный, воспользовавшись этой темой, посвятил свое стихотворение Красному Флоту.
Курсантов в училище было немного – на нашем курсе около ста человек. Большинство помещений пустовало. А когда мы приходили на обед, то заполнялась лишь половина огромного зала Революции. В этом зале иногда проводились собрания партийной организации всего Петрограда. А по понедельникам устраивались концерты с участием известных артистов. «Люди гибнут за металл…» – не раз гремел там бас Ф. И. Шаляпина. В зал Революции вела картинная галерея, где были собраны бесценные творения русских маринистов. Мы подолгу останавливались перед такими полотнами Айвазовского и Боголюбова, как «Чесма», «Наварин», «Афонское сражение», «Синоп», рассказывающими о былой славе русского флота.
Надо прямо сказать, что исторические живописные полотна играют в воспитании молодого поколения немалую роль.
При училище был свой музей. В десяти его комнатах разместились модели всех типов кораблей, начиная от гребных, кончая последними новыми судами. Ведал музеем преподаватель военно-морской истории и минного дела Гроссман. Старый опытный минер, влюбленный в свою профессию, он имел один недостаток: читая лекции по минному делу, непременно переходил на собственную биографию. Так и шутили над ним: «Сейчас будет минное дело, или биография Леонида Гроссмана».
Позже, когда Военно-морской музей перебрался в здание бывшей Фондовой биржи (где находится и теперь), все модели кораблей передали туда.
Остался в памяти компасный зал. Длинный классный коридор расширялся в этом месте, и здесь на полу была выложена паркетом компасная картушка со всеми тридцатью двумя румбами. Вот на эти румбы в свое время и ставили провинившихся кадетов. Старый обычай пытались перенести и на нас, курсантов, но не получилось. Однако кое-кто из моих товарищей все же успел отстоять там в часы увольнений. «За тихое учение и громкое поведение», – шутили мы.
Об отмене традиции «стоять на румбе» жалеть не следует.
А вот «звериный» коридор упразднили напрасно. В нем на стене во всю длину висели изображения различных зверей, которыми некогда украшались носы парусных кораблей. Это напоминало о прошлом нашего флота, было как бы кусочком военно-морской истории.
Много лет спустя, когда я однажды посетил училище, тогдашний его начальник Ю. Ф. Ралль спросил меня:
– А помните «звериный» коридор?
– Где же он?
Оказывается, в борьбе нового со старым его уничтожили: звериные головы кому-то не понравились.
Руководили нашим училищем в те годы главным образом бывшие офицеры царского флота. Все они, за очень редким исключением, доказали свою преданность Советской власти, трудились честно, самоотверженно.
Начальником училища был вначале Е. Ф. Винтер. Он очень любил строевое дело и охотно водил нас на все парады. Но его маленький рост не очень гармонировал со статными курсантами первой роты, что огорчало Винтера.
Это был энергичный и способный человек. К сожалению, он прослужил недолго: тяжело заболел и умер. Нам, молодым, так и не удалось ближе узнать его. Я лучше знал его брата – Б. Ф. Винтера, много лет проработавшего в системе военно-морских учебных заведений. Он известен на флоте как герой, отличившийся при ликвидации диверсии на крейсере «Аврора». Обезвреживая «адскую машину», Борис Францевич потерял несколько пальцев.
После смерти Е. Ф. Винтера начальником училища стал Н. А. Болотов, тоже старый офицер, в годы гражданской войны связавший свою жизнь с партией. Николай Александрович несколько лет командовал училищем и оставил о себе добрую память.
Заместителем начальника училища был некий Г. И. Шульгин. В царское время Шульгин принадлежал к особо родовитому дворянству, но волею судеб ему пришлось преподавать будущим красным командирам штурманское дело. До сих пор помню его высокую, военной выправки фигуру. Шульгин был немногословен, предельно строг, аккуратен и до самозабвения любил порядок в классе. Его раздражала малейшая оплошность дежурного. Войдя в класс, он обычно не садился, а сразу же начинал лекцию. Если вызывал кого к доске, не имел привычки помогать тому; коль курсант не отвечал, сухо бросал ему: «Садитесь» – и ставил двойку.
Скольких командиров проводил на флот за долгие годы службы начальник учебной части училища, старый опытный штурман царского флота М. М. Безпятов. В молодости, повредив ногу, он вынужден был уйти на береговую службу. Михаил Михайлович читал нам астрономию и навигацию. Жил он при училище. С самого раннего утра и допоздна его можно было видеть в классах.
Безпятов был одинаково строг с преподавателями и курсантами. Соберет, бывало, учебный совет и начнет выговаривать своим коллегам за невысокую требовательность в классах. Дело в том, что некоторые преподаватели не осмеливались в те годы причинять неприятности – ставить двойки бывшим морякам, героям гражданской войны. Что руководило ими? Не знаю. То ли боязнь, то ли уважение к заслугам героев. Во всяком случае, педагоги старались натянуть, как говорится, троечку. Но Михаил Михайлович был неумолим. Однажды на учебном совете (как представителю от курсантов мне пришлось присутствовать на нем) Безпятов начал:
– Господа! – Так обращался он к коллективу даже в 1924 году. – Что значит сорок с сорока минусами? – Все недоуменно посмотрели на него. – Вот я тоже не понимаю, что такое три с тремя минусами.
Оказалось, что математик Ремерт поставил кому-то тройку, сопроводив ее тремя знаками «минус». Даже при всей мягкотелости Ремерта курсант, видимо, заслуживал только двойку. Но у преподавателя не хватило духу поставить эту оценку. Вот он и вынес соломоново решение – оценил его ответ на тройку с тремя минусами.
Мне приходилось бывать у Безпятовых на квартире. Свело меня с этой семьей несколько необычное обстоятельство. Возвращаясь как-то из увольнения, я увидел, что во дворе училища упала пожилая женщина. Я помог ей подняться и проводил до дверей квартиры. Это была жена Безпятова. Михаил Михайлович, наспех поблагодарив меня, стал трогательно ухаживать за супругой. А наутро, словно бы извиняясь за некоторую суховатость, проявленную накануне, выразил сердечную признательность.
Потом Безпятовы пригласили меня в гости. Я чувствовал себя у них несколько стесненно. Выручили альбомы, в которых хранились фотографии неизвестных мне офицеров старого флота с погонами и эполетами на мундирах. Хозяин показал и корабли, на которых он плавал.
Жаль, что Безпятов недолго преподавал в нашем классе.
Общеобразовательные предметы нам читали маститые профессора Петрограда. Мои однокашники до сих пор помнят одного из них – математика Ляскоронского. Он отлично знал свой предмет. А так как все мы были слабы в математике, то помимо программных часов он давал нам дополнительные уроки по вечерам.
Ленинский призыв
Бывают события, которые неожиданно и сразу ломают обычное течение жизни. За короткие дни и даже часы люди переживают больше, чем за годы. Таким событием для меня и моих сверстников явилась кончина Владимира Ильича Ленина.
И сейчас, спустя четыре с лишним десятилетия, мне отчетливо помнится тот вечер хмурой питерской зимы. Закончились дневные занятия. В коридорах и ротных помещениях людно, шумно. Одни весело болтают, пользуясь свободной минутой, другие сидят за высокими столами: надо подготовиться к завтрашнему дню. Третьи – среди них и я – собираются «на берег». Хотя наше училище расположено на Васильевском острове, но мы, будущие командиры кораблей, пользуемся морскими терминами.
Торопливо чистим и гладим обмундирование, наводим последний лоск. Дежурный командир строг. Малейшая небрежность в одежде – и о береге уже не мечтай.
Как всегда в такие минуты, мы возбуждены. Гадаем, что принесет нам этот вечер, подшучиваем друг над другом, вспоминаем смешные истории. То тут, то там звенит беспечный юношеский смех.
И вдруг – эта весть, такая ошеломляющая и страшная. Умер Ленин!
Никто нас не собирал и не приказывал строиться. Ничего не объявлено официально, а все уже знают – это правда, это случилось. Все, что занимало нас минуту назад, сразу отошло куда-то бесконечно далеко и потеряло смысл. Мы не вспоминаем об увольнении, забыты занятия. Лежат на столах раскрытые книги, тетради с нерешенными задачами, с недописанными фразами…
Нам хочется быть вместе, мы словно жмемся друг к другу. Собираемся группами, тихо переговариваемся. Даже обычные сигналы звучат негромко, приглушенно. Курсантский строй не печатает шаг, почти бесшумно проходит по длинным гулким коридорам.
Все разговоры, все мысли о том, кого мы потеряли… Ни один из нас не видел Ильича, не слышал его голоса. Наверно, до этой минуты мы даже не отдавали себе отчета в том, что он значил для нас, для народа, для человечества. Этого и не поймешь сразу: нужны годы, десятилетия. Но мы начинали осознавать всю невосполнимость утраты.
Вокруг имени Ленина никогда не шумело славословие. Поистине великий, он был и поистине скромным. О нем говорили просто: «Товарищ Ленин», иногда «Ильич». Он был воплощением революции, ее побед, будущего народа. Он ушел – и все мы сразу осиротели. Каждый испытывал чувство, какое бывает у сына, неожиданно лишившегося отца. Ты всегда обращался к нему в трудную пору: он знал что делать. Его не стало – и груз новой ответственности лег на твои плечи.
На следующий день мы узнали, что небольшое подразделение военных моряков поедет с питерской делегацией в Москву, на похороны Владимира Ильича. В составе подразделения и я – представитель училища.
И вот железнодорожный эшелон медленно подходит к столице. Молча спускаются по ступенькам вагонов люди: путиловцы, обуховцы, выборжцы… Бледные, необычно суровые лица. Вот какая печальная встреча с Ильичем предстоит нам!
На дворе лютый мороз, а мы, моряки, одеты легко, в тонких шинелях и бескозырках с башлыками. Но сердце стынет не от мороза.
В плотном строю быстрым шагом идем к казармам, где нам предстоит разместиться. Узнаем, что в карауле будем стоять не сегодня. Пока мы свободны. Я впервые в Москве. «Походим по городу», – предлагает однокурсник, москвич. Он ведет меня по Тверской, по кривым московским переулкам. Но день не для прогулок. Нас неудержимо влечет на Красную площадь. Заснеженная, скованная морозом, она сверкает под холодным зимним солнцем. Близ Кремлевской стены горят костры. Дым прямыми столбами поднимается к небу. Саперы долбят ломами промерзшую землю. Сотни людей молча следят за их работой. Одни приходят, другие уходят, но толпа не редеет. Тут будет временный Мавзолей Владимира Ильича Ленина.
Вдалеке виден Дом союзов. Тогда еще не было зданий гостиницы «Москва» и Дома Совета Министров, впоследствии заслонивших его. Бесконечными длинными цепочками тянутся к Дому союзов медленно движущиеся очереди. Люди в пальто, зипунах и шинелях идут и идут в Колонный зал. Рабочие, солдаты, крестьяне прощаются с Ильичем.
Наша очередь нести почетный караул наступает в субботу – в последний день перед похоронами. Через запасный вход нас проводят в Колонный зал. Стараясь не шаркать ногами о ступени лестницы, поднимаемся на хоры. Безмолвно застыв, смотрим вниз. Там идут и идут люди, неся к высокому постаменту, на котором покоится Ленин, скорбь Москвы, России, всех народов Советского Союза, всего трудящегося мира. Музыка льется торжественно и печально, сливаясь с рыданиями людей…
Потом я стою в почетном карауле – справа, у ног Владимира Ильича. Течет и течет людской поток, я не вижу никого, кажется, и не думаю ни о чем. Все смотрю на ленинское лицо. Его надо запомнить на всю жизнь.
Наша смена одна из последних. Вернувшись на хоры, замечаем, что уже поздний вечер. Входы в зал закрываются. Идут приготовления к похоронам. У тела Ильича – близкие, родные. Сверху видим все происходящее в зале. Видим Надежду Константиновну, склонившуюся у открытого гроба, и возле нее – Марию Ильиничну. Жена и сестра. Они всегда были рядом с Ильичем, и вот теперь – в последний раз… Видим, как молча становятся у высокого постамента товарищи Ленина по многолетней борьбе. Я вспоминаю чьи-то слова: «Мы расстаемся только с тем, что было в нем смертного, но Ленин бессмертен, бессмертен и ленинизм». Да, это так. Пройдут десятилетия, и опыт истории подтвердит правоту этих слов. Сегодня нами владеет глубокое, терзающее сердце горе, но и в этом горе уже зреют решимость, воля к борьбе.
Мне не передать сейчас мыслей и чувств, владевших нами в ту долгую ночь и весь следующий день, когда мы стояли в цепи по краям живого коридора, а мимо нас проплывало поднятое рабочими руками, руками друзей, тело Ильича. Последний путь – к Красной площади, к Мавзолею…
Все остановилось, окаменело – люди на Красной площади и в сибирских деревнях, станки на фабриках и поезда в пути. Только кричали, надрывая душу, гудки заводов, фабрик, паровозов, кораблей да тревожно выстукивали тысячи телеграфных аппаратов: «Встаньте, товарищи, Ильича опускают в могилу».
Мы шли на Красную площадь почти непосредственно за гробом.
Вскоре после похорон В. И. Ленина мы возвращались в училище, уже не в Петроград, а в Ленинград. Город в эти дни получил новое имя. Ленинградом назвали его питерские рабочие. Второй съезд Советов Союза ССР записал в решении: «Пусть отныне этот крупнейший центр пролетарской революции навсегда будет связан с именем величайшего из вождей пролетариата Владимира Ильича Ленина!».
Вернувшись в училище, мы еще долго находились под впечатлением поездки в Москву. Комсомольская организация училища и райком комсомола Васильевского острова поручили мне сделать ряд докладов на фабриках и заводах. Наивными выглядят теперь эти выступления о Владимире Ильиче. Пожалуй, тогда и не время было рассказывать о Ленине как гениальном теоретике, организаторе первого в мире социалистического государства, о его бессмертных трудах. Хотелось больше говорить о нем как о самом «человечном человеке», который отдал всю без остатка жизнь для победы Октябрьской революции. Да и слушатели хотели знать о Владимире Ильиче самое человеческое: кто его жена, были ли у него дети, курил ли он. Такие немудреные вопросы задавали рабочие Василеостровского трамвайного депо.
Вслед за этим я пришел в партийную ячейку, принес заявление с просьбой принять меня в партию. Заявление состояло из нескольких строк, но в них заключался самый важный для меня итог всего продуманного и понятого в траурные дни в Москве.
На собрании товарищи, как обычно, предложили, чтобы я рассказал о себе. Я стоял под требовательными и внимательными взглядами. С чего начинать? С того, как осенью девятнадцатого пошел добровольцем в Северо-Двинскую флотилию, дравшуюся с интервентами? Или с более ранних лет, с тех, когда умер отец и я, мальчонка, пошел «в люди»?
А может быть, следовало рассказать о том, как впервые попал в море на рыбачьей шхуне? Навстречу катила свежая волна. Июньское солнце не заходило над Белым морем. Я стоял на носу. Мне доверили быть впередсмотрящим. Может, именно тогда во мне зародилось желание стать моряком?
Оснований увлечься романтикой моря было достаточно. В Архангельске, и особенно в его пригороде Соломбале, жило много поморов, предки которых еще при Петре Великом селились на берегах Белого моря. Устье Северной Двины не случайно с давних пор привлекало внимание России. Студеное море открывало нашим отважным мореходам путь как на запад, так и на восток.
Рассказы старых моряков разжигали в сердце мечту о странствиях и подвигах. Часами мы, мальчишки, простаивали у причалов, где стояли большие и малые суда, пришедшие из самых разных стран.
– Настоящие моряки только здесь, на Севере, – не раз слышал я от капитана шхуны. Не бахвальство, а гордость звучала в словах старого помора. Жизнь не раз убеждала меня в его правоте. Плавая на кораблях Северного флота, я всегда восхищался особой выучкой офицеров и матросов – людей знающих и влюбленных в суровое море.
…Многое промелькнуло в памяти, когда я стоял перед собранием. Но рассказал о себе совсем коротко. В зале сидели участники революции, бойцы ленинской закалки, а мой жизненный путь только начинался… Мне предстояло пройти его так, чтобы стать достойным звания коммуниста.
Вот это я и обещал товарищам, принимавшим меня в партию.
Нас ждут корабли
В училище я провел четыре года. Зимой мы занимались в классах, летом – на кораблях. Службу на кораблях начинали с азов. Драили палубу да медяшку и стояли простенькие вахты. Но с каждым годом обязанности усложнялись.
Когда на старшем курсе плавали корабельными курсантами на линкоре, то нас допускали к несению ответственных вахт на мостике. «Становитесь на якорь», – скажет, бывало, командир линкора «Парижская коммуна» К. И. Самойлов, и мы отдавали нужные команды, гордые оказанным доверием.
Две летние кампании наш курс ходил в плавание на старой, но дорогой всем нам «Авроре», которой командовал Л. А. Поленов. Курсанты относились к нему с глубоким почтением: ведь Поленов служил здесь еще в семнадцатом году, когда крейсер произвел свой исторический выстрел.
И в те годы «Аврора» была уже устаревшим кораблем. Во время штормов, осенью частых на Балтике, она скрипела, переваливаясь с волны на волну. И техника на корабле заставляла вспоминать о прошедшем веке. Когда поднимали тяжелый, многопудовый якорь, приходилось всем попотеть. Правда, из воды якорь вытаскивали паровым шпилем, но затем наступал наш черед. «Все на гини ката!» – командовал старший помощник, и курсанты брались за толстый длинный конец.
Первое плавание на «Авроре» мы совершили в 1923 году – в водах Балтики и Финского залива. Пережили трехдневный шторм. Наш старенький крейсер, раскачавшись на волне, скрипел, поднимая и опуская свой нос. Отдельные крупные волны перекатывались по полубаку и шкафуту. Носовые клюзы и полупортики принимали воду. Я хорошо переносил качку и теперь мог с уверенностью сказать, что могу плавать на кораблях в любую погоду, а значит, могу быть моряком.
На «Авроре» совершили мы в 1924 году и первое заграничное плавание вокруг Скандинавии. Тогда я снова повидал родные места – Архангельск и Мурманск.
Нам предстояло выйти из Финского залива, спуститься на юг по Балтийскому морю и около Копенгагена выйти в Северное море, не удаляясь далеко от берегов, обогнуть Скандинавский полуостров, зайти в порты Норвегии – Берген и Тронхейм, а затем следовать к родным берегам – к Мурманску и Архангельску.
Северное море оказалось более беспокойным, чем воды Балтики.
Ранним утром мы вошли в норвежские фиорды, чтобы бросить якорь в Бергене. Разноцветные крыши домов освещались лучами солнца. Дома как будто прилепились к скалам и казались совсем близко от корабля. На фоне зелени и серых скалистых берегов они выглядели нарядно. Фиорды то расширялись, то, оставив лишь узкий проход для корабля, казалось, сужались до предела. Неожиданно крейсер резко поворачивал, и перед глазами вновь открывались просторы. Только небольшой маячок указывал нам путь.
Берген предстал перед нами своими башнями, высокими домами, уютными улицами, пристанями и стоявшими на рейде кораблями. Всю первую половину дня заняли принятые в таких случаях формальности и приветствия.
Сначала норвежские власти посетили корабль, затем наш командир отряда нанес ответный визит. Все это сопровождалось положенными салютами орудий кораблей. На нашем корабле побывали представители норвежского морского командования и рабочие Бергена.
В Бергене корабль посетила А. М. Коллонтай – наш полпред и торгпред в Норвегии, первая женщина-посол. Ее имя было хорошо известно нам. Александра Михайловна вступила в революционное движение еще в конце минувшего века, работала в России и за границей, была участницей многих международных социалистических конгрессов. В семнадцатом году по поручению партии она часто выступала на митингах и собраниях перед моряками Балтики. Старые матросы этого не забыли. Но, пожалуй, больше всего в ту пору Александра Михайловна была знакома молодежи как автор статей и книг, в которых она ставила острые моральные проблемы, искала революционное решение вопросов брака и любви. В том, что она писала, было много спорного, было и такое, с чем мы не соглашались. Но интерес к ее выступлениям в печати был неизменно большой.
В 1924 году Александре Михайловне, должно быть, перевалило за пятьдесят, но она все еще выглядела молодо, была красива, поражала своей жизнерадостностью и остротой ума.
На нашем крейсере Александра Михайловна вручила орден Красной Звезды курсантам, которые проявили отвагу при взрыве на форту Павел летом 1923 года.
Потом она поделилась своими воспоминаниями о Владимире Ильиче Ленине и Надежде Константиновне Крупской и еще долго тепло беседовала с нами.
Еще раз мне довелось встретиться с А. М. Коллонтай уже после войны. Это было на одном из приемов в Москве. В зал ввезли на коляске старую, больную женщину. Не сразу я узнал Александру Михайловну. Подошел к ней, спросил: помнит ли встречу с моряками в Бергене. Оказалось, что очень хорошо помнит. Она с удовольствием заговорила о том времени, о посещении «Авроры», и в глазах ее засветился прежний молодой огонек…
Я с особым уважением вспоминаю Александру Михайловну еще и потому, что в годы гражданской войны она, так же как Р. С. Землячка, Л. М. Рейснер, была одной из активнейших военных политработников. Кстати, я знал Землячку довольно хорошо. Будучи заместителем Предсовнаркома, Розалия Самойловна занималась некоторыми флотскими вопросами, и мне, когда я работал в Москве, не раз приходилось лично докладывать ей. Лариса Рейснер в 1919 году была комиссаром Морского генерального штаба. Мне о ней много рассказывал ее брат, с которым мы вместе учились в училище. Думается, в воспоминаниях, посвященных завоеванию и укреплению Советской власти, будет написано немало страниц об этих самоотверженных женщинах.
После похода 1924 года мне больше не пришлось плавать на «Авроре», но, как многие моряки, я сохранил глубокую привязанность к ней. В двадцатых годах ее называли старушкой, но она еще не один год служила учебным судном, на котором совершали свои первые морские походы будущие командиры флота.
Во время стоянок в Кронштадте мы часто бывали в этом городе. Он тогда являлся главной базой Балтийского флота. Здесь все овеяно морскими и революционными традициями. Уже два с половиной века стоит этот город-крепость в Финском заливе. Первые сооружения возводились еще под руководством Петра Первого. Изумляли их масштабы. Искусственный остров Кроншлот с могучими фортами. Укрепления построены с такой прочностью, что попытки разобрать их на кирпичи кончились неудачей. Каналы и доки безотказно служат до наших дней. Неколебимо высятся над морем каменные стены гаваней – не поверишь, что покоятся они на деревянных сваях.
Видел Кронштадт многие морские сражения. Провожал корабли в кругосветные плавания.
Издавна славился Кронштадт революционным духом матросов и рабочих. Восстание осенью 1905 года, бунт на линкоре «Гангут» в 1915 году. А в феврале 1917 года забурлила митингами знаменитая Якорная площадь. Кронштадт стал крепостью революции. По приказу Ленина в октябре 1917 года отсюда направились корабли в Неву, на штурм старого мира. В гражданскую войну кронштадтские форты своим огнем громили войска Юденича. Матросские отряды сходили с кораблей и отправлялись на сухопутные фронты.
Бывали в истории Кронштадта и черные дни. В 1921 году крепость оказалась в руках контрреволюционеров. Победоносный штурм Кронштадта внес новые строки в славную летопись молодой Красной Армии. Старожилы города, ветераны флота охотно показывали нам достопримечательности острова. О Кронштадте мы много читали. Но одно дело прочесть в книге, а другое – увидеть самому, потрогать руками памятники истории…
Осенью 1924 года после заграничного плавания вокруг Скандинавии нам был предоставлен отпуск. Большинство курсантов разъехались по домам. А мы, несколько товарищей, остались: хотелось побывать на предстоящих больших учениях флота. Десять дней мы снова провели в море, потом вернулись в училище. Ехать было некуда. А безделье быстро надоедает, даже в молодом возрасте. К тому же погода не баловала: ленинградский дождик моросил целыми днями. Единственной радостью был небольшой парусный бот. Мы нашли его во дворе училища. Оказывается, один из наших преподавателей– заядлый моряк А. П. Юрьев собирался совершить на нем большой поход, чуть ли не через океан. Но путешествие по каким-то причинам сорвалось, бот забросили. Теперь его с радостью отдали в наше распоряжение. Мы привели бот в порядок, спустили на воду и целыми днями ходили по Неве под парусом. Нас не смущал ни дождь, ни ветер. Между тем погода портилась все больше. Как-то сентябрьским утром мы не узнали Неву. Над ней низко проносились тяжелые темные облака, дул свежий порывистый ветер с запада. Но, несмотря на это, мы все-таки решили, как обычно, провести несколько часов на парусном боте. Шквалистый ветер крепчал. Под его ударами наш бот все чаще черпал бортами воду. Но это не пугало, а скорее развлекало нас. Такова молодость! Под натянутыми парусами мы лихо лавировали среди тихоходных буксиров и барж. Время двигалось к обеду, и в определенный час мы направили наш ботик к своей стоянке у гранитной набережной. Проскочив между пристанью и стоявшим поблизости крупным «купцом», я скомандовал: «Паруса долой!». Обычно было достаточно спустить парус, развернуть бот против течения, и он останавливался как вкопанный. На этот раз так не получилось. Парус, наполненный ветром, не падал, спасительного течения тоже не было. Казалось, река повернула вспять. Я до отказа положил руль на борт. Это немного смягчило удар о гранитную стенку – он пришелся на скулу бота. Осмотрели свое суденышко. Серьезных повреждений не нашли и с легким сердцем отправились в училище. А вечером мы увидели наш бот на необычном месте.
На втором курсе мы уже многое знали о своем флоте и знакомились с флотами других стран. Военно-научное общество, в котором я работал несколько лет, расширяло кругозор по всем военным вопросам. Там часто делались доклады, проводились дискуссии по внепрограммным вопросам училища. Это заставляло нас глубже вдумываться в происходящие процессы и пусть наивно, но предвидеть будущее флота.
По флоту еще не было принято развернутых решений, не было установки на строительство большого морского и океанского флота, но уже были решения о восстановлении заброшенных кораблей и постройке небольших новых судов. На Балтике в боеспособное состояние был приведен линкор «Петропавловск» и переименован в «Марат», закончены восстановительные работы на «Авроре», вступили в строй некоторые эсминцы, подводные лодки и тральщики. На Черном море плавали крейсер «Память Меркурия», переименованный в «Коминтерн», и два эсминца, представляя новый состав флота. Вот и все, что мы имели в те годы, но нас это мало смущало: мы понимали, что разоренная промышленность не позволяла приступить к строительству флота. Значительно позже я осознал и другое: кроме этого фактора действовал еще один – в нашей стране делами флота занимались, как правило, в последнюю очередь, а это приводило к тому, что строительство опаздывало и не завершалось к намеченному сроку.
В то время мне представлялось идеальным все, что относилось к новому обществу, к нашему будущему. Идеализировал я и людей, принадлежащих к руководящим кругам нашей партии и правительства. Я представлял их себе безупречно честными, беспредельно преданными нашему делу.
Не скрою, позже я начал кое в чем разочаровываться. Но возможно, этот процесс был связан с личными неудачами и здоровьем.
В себе я всегда воспитывал прямое, честное отношение к делу и считал несовместимым быть членом партии и говорить что-нибудь иное, чем ты думаешь, вопреки своим убеждениям.
Настоящий коммунист, я в этом твердо убежден, должен не только прямо высказывать свои мысли, но и бороться за них. Хотя, к великому сожалению, как показала жизнь, зачастую торжествовали совсем не те, кто так поступал… Приходилось, конечно, в чем-то и в ком-то разочаровываться, но было бы катастрофой ошибиться в избранном пути, в своем мировоззрении. Свои убеждения, воспитанные во мне настоящими коммунистами, я пронес через всю жизнь.
На втором курсе мы вели оживленные дискуссии о будущем нашего флота и рисовали себе самые радужные картины. Никакие крупные флоты западных держав нас не пугали, ибо желание служить флоту, вера в его будущее и наши возможности не знали границ.
Летняя практика 1925 года была значительно интересней предыдущей. Теперь мы выполняли не только черновые работы, но и учились прокладывать курс корабля, управлять огнем артиллерии, проводить торпедные стрельбы.
Запомнился мне и заграничный поход к берегам Швеции и Норвегии, который мы совершили на учебном корабле «Комсомолец».
Гетеборг был первым иностранным портом, куда отряд заходил на пять дней. Снова наши моряки удивляли жителей своим культурным поведением. Мэр Гетеборга, провожая нас, сказал, что он впервые встречает такое безупречное поведение моряков. Теперь это вошло уже в традицию и почти никого не удивляет, но тогда…
Именно в Гетеборге нас, четырех курсантов, пригласил к себе в гости на дачу один финн, работавший до революции в России. Как он потом нам признался, ему очень хотелось показать нас своей жене – нашей соотечественнице. Мы имели свободное время и охотно согласились приехать. Хозяйка встретила нас радушно, но как-то настороженно. Сначала она стала робко задавать вам вопросы: как живется в Ленинграде (она чаще говорила Петербурге), горит ли там по вечерам свет. И только под конец встречи осмелилась спросить, работает ли Мариинский театр и много ли машин в городе. Мы, посмеиваясь, отвечали, что в Ленинграде жизнь бьет ключом, а хозяйка с недоверием смотрела на нас, но вежливо соглашалась.
Дети – три прелестные деточки – не имели никакого представления о нашей стране. Вот тому пример. Закурив папиросу, я положил коробок спичек на стол. Девочка лет восьми-девяти взяла его и с удивлением спросила мать: «Мама, это русские спички?». «Да», – ответила хозяйка. «Значит, это плохие спички», – выпалила девочка. Мы шутливо ответили, что это очень хорошие спички, пожалуй, ничуть не хуже шведских, которые славятся своим качеством. Хозяйка смутилась, стала журить дочь и попросила у нас извинения за ее нетактичность. Подобные моменты сначала огорчали нас. Но потом мы были вознаграждены. Прощаясь с нами, хозяйка буквально плакала, говоря, как бы она хотела быть теперь в России.
После Гетеборга, который нам очень понравился, мы заходили в норвежские порты Берген и Тронхейм, а потом посетили Мурманск и Архангельск. Якоря мы бросали в устье величавой Северной Двины.
Все для нас было ново и интересно. И все же с каким нетерпением мы ожидали, когда перед нами откроется Кронштадт с его высоким собором и знакомыми маяками на рейдах!
С какой радостью мы возвращались домой!
В первых числах ноября 1925 года мне довелось в составе всего нашего курса снова ехать в Москву. 31 октября 1925 года умер Нарком по военным и морским делам, Председатель Реввоенсовета СССР Михаил Васильевич Фрунзе. Меньше года он был на посту наркома. Однако и за это короткое время сумел завоевать огромную любовь не только в армейских кругах, где его хорошо знали, но и у моряков, с которыми он имел значительно меньше дела.
Вспоминаю его приезд в Ленинград в 1924 году, когда он был назначен на должность Наркомвоенмора после снятия Троцкого. Вооруженные Силы тогда проводили серьезные мероприятия по повышению своей боеспособности.
В зале Революции нашего училища были собраны командиры Ленинградского гарнизона. В своем выступлении М. В. Фрунзе большое внимание, помнится, уделил вопросам воспитания и дисциплины. Вопрос воинского воспитания он неразрывно связывал с культурой людей в целом, требовал повышения культуры, без чего, по его словам, нельзя говорить о воспитании.
«Служба во флоте, – говорил Михаил Васильевич, – является самой сложной и технически самой трудной из всех специальных служб. Современный боевой корабль представляет сочетание элементов целого ряда областей промышленной техники. Это организм, составленный из самых сложных и тончайших механизмов, требующих особого искусства, умения и сноровки управления ими… Настоящим красным командиром, в полном смысле этого слова, можно стать лишь в результате длительной работы, на опыте. И эта работа будет тем успешней и тем полезней для дела, чем ревностнее и упорнее каждый молодой командир будет работать над своим дальнейшим воспитанием».
Позднее, на своем командирском опыте, я убедился, что культура и воспитание неразделимы. Подбор кадров на корабли из наиболее культурной и развитой молодежи обеспечивал нам воспитание преданных Родине, отлично знающих свое дело командиров и матросов, что в свою очередь позволяло достигать высокого уровня боевой и политической подготовки еще в мирное время. А в годы Великой Отечественной войны, когда воспитание и знания пришлось применить к делу, матросы и офицеры флота оказались на высоте.
В день похорон М. В. Фрунзе в Москве сосредоточилось много различных воинских подразделений от разных гарнизонов и всего Московского гарнизона. Чувствовалось, что страна потеряла военного руководителя, занимавшего большой государственный пост.
В один из тех печальных дней, проведенных в Москве, мне довелось присутствовать на митинге в одной из воинских частей Московского гарнизона, где выступал К. Е. Ворошилов. Он говорил о тех задачах, которые стоят теперь перед Рабоче-крестьянской Красной Армией и нами, военными всех рангов и должностей.
До тех пор я мало слышал о Клименте Ефремовиче, его фамилия редко встречалась в наших флотских кругах. Но мы знали, что он выходец из рядов рабочего класса, герой гражданской войны. Тогда уже высказывалось предположение, что Ворошилов будет преемником М. В. Фрунзе на посту Наркома по военным и морским делам.
Уже много лет спустя от Семена Михайловича Буденного я узнал, что М. В. Фрунзе умер на операционном столе. Как рассказывал Буденный, он очень не хотел ложиться на операцию по поводу язвы желудка, но решением высших инстанций ему было предложено сделать это. Операция оказалась роковой – М. В. Фрунзе не проснулся от общего наркоза.
Прослужив почти 40 лет на флоте, будучи матросом, офицером, затем комфлота и наркомом Военно-Морского Флота, я встречал много различных должностных лиц, которые прямо или косвенно влияли на дела флота. Это были очень разные люди – от высокообразованных до узких военных специалистов. И всегда я с большой любовью вспоминал М. В. Фрунзе. Вспоминал, как после похода на линкорах Балтийского флота он, упомянув ради скромности о своей некомпетентности в морских делах, высказал ряд очень правильных суждений в адрес флота. В них были и критические мысли, и правильно схваченные им за несколько дней пребывания в море особенности трудной морской службы, сложной техники кораблей и многое другое.
Уже тогда я понял: для того чтобы руководить малознакомой отраслью, необязательно быть специалистом. Надо уметь выслушивать знающих людей, оценивать обстановку и выносить свое объективное, разумное суждение, как это делал М. В. Фрунзе.
За время своего длительного пребывания на больших должностях в Москве мне нередко приходилось огорчаться непониманием наших флотских вопросов со стороны тех людей, которые обязаны были в них разобраться. И тогда я с особым чувством вспоминал М. В. Фрунзе. Короткие встречи с Михаилом Васильевичем Фрунзе и очень кратковременная служба под его руководством оставили у меня неизгладимое впечатление о нем как о военном и политическом руководителе незаурядного таланта и очень высокой культуры.
В октябре 1926 года я простился с училищем. Перед выпуском мы много спорили, где лучше служить. Самой заманчивой и многообещающей считалась в те годы служба на линкорах. Во время практики на линейном корабле «Парижская коммуна» мы не раз слышали от его командира К. И. Самойлова: «На линкоре вы пройдете суровую, ни с чем не сравнимую школу».
Самойлов пристально присматривался к нам. Ему предстояло отобрать нескольких человек для линкора. Я был среди кандидатов, но моя судьба сложилась иначе.
В последний день пребывания в училище мы собрались в нашем кубрике, в небольшом помещении бывшей церкви. Нас, выпускников, разместили там: к тому времени в здании бывшего Морского корпуса стало уже тесно.
Ожидали начальника курса В. И. Григорьева, который должен был зачитать приказ о распределении. В тот год курсанты, отлично окончившие училище, получили право сами выбирать место службы. Когда среди отличников назвали мое имя, я встал и, вытянувшись, доложил:
– Желаю служить на Черном море.
– Куда ты, северный медведь? – тихонько потянул меня за руку сидевший рядом товарищ. – Ты там от жары ноги протянешь…
Но судьба моя была уже решена. В списке против моей фамилии стояло: Черноморский флот. Можно только гадать, как сложилась бы у меня служба, не откажись я от назначения на балтийские линкоры.
Годы пребывания в подготовительной школе и военно-морском училище совпали с периодом восстановления флота. Молодой Советской Республике пришлось начинать все сначала. В гражданскую войну почти полностью вышел из строя Черноморский флот. Одни корабли погибли в боях, другие по приказу В. И. Ленина потопили сами моряки, чтобы не отдавать в руки врага, третьи были уведены белогвардейцами в Бизерту – французскую базу в Африке. На Балтике дела сложились иначе. К двадцатым годам весь флот после возвращения из Гельсингфорса собрался в Кронштадте. Там же, в Военной гавани, стояли недостроенные корпуса гигантов-дредноутов типа «Измаил». Их вскоре продали Германии на слом, а взамен приобрели необходимые народному хозяйству паровозы. В Купеческой гавани высились корпуса недостроенных крейсеров типа «Светлана». Только спустя несколько лет один корабль из этой серии – «Профинтерн» – был достроен на Балтийском заводе и переведен в Севастополь. Другие суда приспособили под танкеры. Около Кронштадтского морского завода стояли тогда безжизненные линкоры типа «Севастополь». А возле училища лежало на грунте госпитальное судно «Народоволец». Рассказывали, что корабль погубила плохая служба: выравнивали крен, да перекачали воду на правый борт; швартовы не выдержали, лопнули, и огромный транспорт сначала накренился, а потом, как только вода хлынула в иллюминаторы, лег на борт. Два года перевернутый «Народоволец» своим видом омрачал вид Невы, пока его не поставили на ровный киль.
Большинство кораблей Балтийского флота продолжало стоять на «кладбище», и, казалось, не было никакой надежды в короткие сроки ввести их в строй. И вдруг они стали оживать. Мы видели это собственными глазами во время летней практики и радостно приветствовали каждую новую боевую единицу. Так, мы несказанно обрадовались, увидев на рейде линкор «Марат» с поднятым Военно-морским флагом и вымпелом на грот-мачте.
Нередко сами курсанты принимали деятельное участие в восстановлении кораблей. Немалую лепту вложили мы в возрождение «Авроры», прежде чем она впервые вышла в море. Вслед за «Авророй» не без помощи курсантов на рейде появилось другое учебное судно – «Комсомолец».
Затянулся на флоте и процесс подготовки командного состава. Если в Красную Армию к тому времени пришло много бывших царских офицеров, которые, пройдя сквозь горнило гражданской войны, доказали свою преданность революции и уже занимались строительством Вооруженных Сил, то на флоте было по-другому. Основное ядро царского флота, как известно, составляла каста родовитых дворян – оплот самодержавия. Февральскую революцию офицеры встретили в большинстве своем единодушно. А в дни Октября мало кто из них остался с народом. Значительно больше было Штубе, чем Берсеневых (если вспомнить драму Бориса Лавренева «Разлом»). Многие, подобные Штубе, оказались ярыми врагами народа, покинули Родину, когда корабли еще в 1917–1918 годах стояли в Ревеле и Гельсингфорсе, другие выжидали, оставаясь на флоте или устроившись на гражданскую службу: преподавали в школах, работали мелкими служащими в учреждениях, встречались даже священники из бывших флотских.
Но все же нам были известны в те годы имена бывших царских офицеров, безраздельно перешедших на сторону Советской власти и преданно служивших ей, хотя не все происходившее понимали правильно, не со всем, что делалось на флоте, соглашались. Это М. В. Викторов, Л. М. Галлер, Э. С. Панцержанский, С. П. Ставицкий, Г. А. Степанов и другие. Ф. Ф. Раскольников, старый большевик, стал офицером после Февральской революции, В. М. Орлов окончил школу мичманов военного времени, Октябрьская революция застала его офицером на крейсере «Богатырь», вскоре он вступил в партию, И. К. Кожанов к моменту Октябрьской революции находился на гардемаринских курсах.
Слышали мы также о рядовых моряках, которые отличились в годы революции и гражданской войны и быта выдвинуты на руководящие посты: Л. Г. Зосимов, Н. Ф. Измайлов, И. М. Лудри, Р. А. Муклевич, К. И. Душенов, И. Д. Сладков, В. Д. Трефолев, председатель Центробалта и первый Народный комиссар по морским делам П. Е. Дыбенко.
Пусть судостроительная промышленность была еще слаба и флоты небогаты кораблями, нас, курсантов, не удручали эти временные трудности. Мы покидали военно-морское училище с огромной верой в будущее страны и ее флота.
С верой в будущее
Итак, я изменил Балтике с ее линкорами, скучным Кронштадтом и прекрасным, хотя и дождливым, Ленинградом. Избрал Черное море и новый крейсер «Червона Украина» («Адмирал Нахимов»), строительство которого началось еще перед революцией и закончилось только в двадцатых годах.
«Самый новый крейсер – что может быть лучше?» – думал я, мечтая о Черном море, Севастополе и больших плаваниях.
Две недели законного ничегонеделания – и в один из дождливых октябрьских дней мы простились с училищем и городом. Когда-то доведется вернуться сюда?
Мне еще не приходилось бывать южнее Ленинграда, и незамерзающее море, Крым с его кипарисами, Черноморское побережье Кавказа, где выращивают чай и цитрусовые, я представлял себе только по книгам. Разительную перемену в климате я ощутил, как только миновали Перекопский перешеек. Крым давал о себе знать. Октябрьское солнце припекало изрядно. Опытные пассажиры уже укладывали теплые вещи и готовились налегке продолжать путь. После крутых поворотов промелькнуло несколько туннелей, и поезд выскочил на берег огромной Северной бухты. Один ее конец упирался в Инкерманскую долину, другой сливался с необъятными просторами Черного моря. Вот и Севастополь – главная база Черноморского флота. Высокие, стройные кипарисы. Здание Севастопольской панорамы. Вокзал. Вокруг него лепятся на склонах гор маленькие каменные домики. Кораблей в бухте не видно. Нам известно что на одном из заводов заканчивается строительство «Червоной Украины». Но где же весь Черноморский флот?
Однокашник Д. Д. Вдовиченко, старый черноморец, его отец служил механиком на крейсере «Коминтерн», взял на себя роль старшего. Он вслух гадает, где держит флаг командующий Э. С. Панцержанский, к которому нам надлежит явиться, – на «Коминтерне» или на «Моряке»? Решили отправиться на Минную пристань и там все выяснить. Спустившись к бухте, обнаружили, что «Красный моряк» стоит там, но без отличительных знаков власти на своей мачте: корабль в том году перестал плавать. По существу, это была уже реликвия, а не корабль. Кстати, в Севастополе в 1926 году сохранилось немало подобных реликвий. В глубине Южной бухты стоял остов «Поповки» – круглого корабля, сооруженного по проекту адмирала Попова. Как и следовало ожидать, он не нашел применения. Его конструкция отрицала все законы судостроения и теории плавучести. Неподалеку от вокзала виднелись два старых маленьких миноносца – «Шмидт» и «Марти», отличившиеся в годы первой мировой войны у турецких берегов, но уже давно потерявшие боеспособность, а на приколе у стенки Сухарной балки – устаревший корабль «Знамя социализма». Печальным памятником в Северной бухте возвышался затонувший линкор «Императрица Мария».
Нам требовалось попасть на «Коминтерн» – единственный крупный корабль, сохранившийся после тяжелых испытаний в годы интервенции на Черном море.
«Коминтерн» стоял у завода. Мы расположились на бревнах, неподалеку от кормы корабля, и начали обсуждать: пойти ли всем сразу к начальству или послать на разведку одного из нас. Остановились на последнем варианте. Жребий пал на И. Ковша. Он отряхнул пыль с ботинок, внимательно осмотрел китель и, приняв строевую стойку, отправился к начальнику отдела кадров Куставу. Тот решал нашу судьбу. Мы остались в томительном ожидании.
Осматривая пустую бухту, я немного загрустил. Обычно на Большом Кронштадтском рейде в летние месяцы собиралось много различных кораблей, а тут… Боевое ядро флота составляли лишь два эсминца – «Петровский» и «Незаможник», ожидался новый крейсер. Маловато. Заботило и другое: а вдруг вместо крейсера меня назначат на тихоходные канонерские лодки «эльпидифоры» или старые тральщики «Джалита» или «Доротея»? Как бы не пришлось раскаиваться в своем выборе. К вечеру настроение поднялось. Я узнал, что моя просьба удовлетворена – получил назначение на «Червону Украину». Туда же были назначены мои однокашники И. Ковш и С. Капанадзе.
Несколько дней спустя мы выехали на судостроительный завод. Приходилось торопиться: подпирало с деньгами. Подсчитав оставшиеся ресурсы, пришли к выводу, что их хватит на хлеб, копченую барабульку и арбузы. Дня три прожили безбедно.
Нам, вахтенным начальникам крейсера, было теперь интересно знать, с кем придется служить. Из разных источников услышали: командует «Червоной Украиной» Н. Н. Несвицкий, его старший помощник – А. И. Белинский, а помощник командира – Л. А. Владимирский.
Николай Николаевич Несвицкий, как рассказывали, мрачный, суровый и на редкость молчаливый человек. В первую встречу он действительно произвел на нас такое впечатление. На самом же деле, мы после в том убедились, Несвицкий по характеру был хотя и замкнутым, но добрым. Правда, говорил он мало, отрывисто и чуть-чуть в нос, подчас трудно было разобрать, какую команду отдает.
Несвицкий ни перед кем не открывал своей души. В часы отдыха он чаще всего сидел в своей каюте молча, одиноко. Но моряком Несвицкий считался храбрым и отважным. Служил в царском флоте. В гражданскую войну вывел свой корабль «Азард» с минного поля, в то время как три других балтийских эсминца – «Константин», «Гавриил» и «Свобода» – подорвались и погибли. За это его наградили орденом Красного Знамени. Несвицкому принадлежит также большая роль в потоплении английской лодки «Л-55», вторгшейся в наши воды.
О первом помощнике Несвицкого, А. И. Белинском, ходили разные слухи. Одни говорили, будто он отличный моряк, много плавал на торговых судах и прекрасный человек. Другие пугали нас его неровным, неуживчивым характером.
Льва Анатольевича Владимирского – старшего вахтенного начальника – аттестовали так: «Лучшего помощника не может быть». Мы хорошо его знали. Он окончил военно-морское училище на год раньше нас. С первых лет службы Владимирский прослыл на флоте отличным моряком.
Отчетливо запомнился такой эпизод. Соединение кораблей шло в строе кильватера: «Червона Украина» как флагманский корабль – впереди, а нам в кильватер – сторожевики, в том числе «Шторм» с Л. А. Владимирским на мостике. Осень. Погода и на благодатном Черном море иногда бывает штормовая! По мере усиления шторма корабли ныряют или сильно кренятся, а волны забираются на палубы, обдавая брызгами даже всех стоящих на мостике.
На крейсере это переносится довольно легко, а сторожевикам достается, и довольно крепко. Вот уже два сторожевика один за другим просят разрешения «выйти из строя» и лечь на курс, на котором легче переносить качку.
Конечно, так же тяжело и «Шторму», но Владимирский не просит пощады, и мы наблюдаем, как он купается в волнах. Некоторые из них достигают мостика, прокатываясь затем по всей палубе сторожевика. Стоящий рядом со мной комфлота И. К. Кожанов внимательно наблюдает за сторожевиком, интересуется, кто там командиром. «Да, цепко держится командир», – сказал комфлота, явно восхищаясь выдержкой Владимирского.
Получить похвалу от комфлота на разборе было нелегко, но он уделил довольно много времени разбору этого похода. Ему явно хотелось дать понять, что и другим в подобных случаях следует поступать, как Владимирский. Конечно, хорошо запомнил и я этот поход, и мое уважение к Владимирскому возросло.