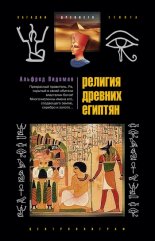Ахилат мацот Улин Виктор
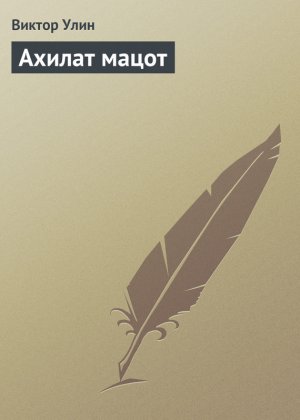
«Пиковая дама»
Памяти Владимира Васильевича
и Евдокии Матвеевны Смирновых
«Герман вздрогнул: в самом деле,
вместо туза у него стояла…»
(Александр Пушкин. «Пиковая дама»)
-…Слова слаще звуков МоцАрта:
«Графиня, ценой одного rendez-vous,
Хотите, пожалуй, я Вам назову
Три карты, три карты, три карты!..»
Репродуктор висел на стене за платяным шкафом. У самой двери, чуть выше выключателя. Старый-престарый, с шоколадного цвета корпусом, он был украшен литым барельефом из бакелита. Слева от затянутого сеткой отверстия вздымался Александрийский столп, справа молча кому-то грозил тюремный шпиль Петропавловского собора.
Древний аппарат находился в превосходном состоянии. Потенциометр регулировал громкость без малейшего хрипа, динамик сороковых годов выдавал звук, сравнимый с качеством японских магнитофонов из комиссионки Апраксина двора, среди которых самый дешевый стоил тысячу рублей. Хотя гробоподобному устройству исполнилось лет сорок, а прежние жильцы этой комнаты не выключали его даже на ночь.
Впрочем, думать о тех жильцах мне не хотелось. Это было слишком грустно: мне самому меньше, чем через год, предстояло оказаться в категории «прежних». Ведь независимо от того, удастся ли защитить диссертацию грядущей зимой, или все отложится на месяцы, срок аспирантуры заканчивался в январе и меня ждала дорога в нелюбимый город своего рождения. После которой оставалось всю оставшуюся жизнь с тоской вспоминать несколько лучших лет, проведенных в Ленинграде.
Но январь ожидался только в январе, а сейчас стоял март. Точнее, его седьмое число. За окном не звенела капель, там сиял давно очистившийся от снега и уже высохший двор; на низком подоконнике в двух бутылках из-под молока ждали своего часа свежие веточки мимозы.
Одна предназначалась на вечер – для высокой белокурой девушки, с которой я неделю назад познакомился в Большом зале филармонии. Второй предстояло пойти в ход раньше: когда вернется с работы соседка Елизавета Ивановна. Невысокая и почти толстая, годящаяся мне в матери.
Приготовил я вторую ветку не для того, чтобы она не услышала ничего лишнего, когда я…
Если мне удастся ближе к ночи привести сюда девушку с первой веткой.
И не потому, что она водила меня в детскую стоматологическую поликлинику, где служила старшей медсестрой: зубы на ленинградской сырости болели постоянно. Я любил Елизавету Ивановну за все вообще. Она не имела образования, не сумела выучиться после войны, носила простую русскую фамилию, но я в жизни не встречал более умной женщины и называл ее исключительно «товарищем генералом».
Купив пушистую мимозу у цыганки в бог знает какую рань, я мог хоть как-то отплатить Елизавете Ивановне за то, что соседкой посчастливилось иметь именно ее.
Да, я был счастлив. И испытывал непреходящую благодарность к соседу по комнате в университетском общежитии. Брутальному азербайджанцу, который отселил меня через своего знакомого армянина, имевшего приятелем еврея, уехавшего в Болгарию, но оставившего здесь русскую племянницу. Для нее эта комната-трамвайчик в коммуналке на двух соседей – с простывшей насквозь аркой под полом и узким окном в торце – служила приданым на будущие времена.
Я не снимал комнату; жил просто так, оплачивая лишь свет на половину общего счетчика и квартплату по квитанции. Уж не знаю, каким образом и за какие услуги азербайджанец договорился с хозяевами, хотя мог жить здесь сам. В центре города, в двух остановках или в десяти минутах ходьбы от Московского вокзала. Но ему было лучше там, где он остался. Ведь в университетском городке близ Старого Петергофа стояли бок о бок три общежитских сталагмита: наш математический, физфаковский и уже переселенного, хоть еще и не переехавшего химфака. И свою страсть, ради которой была освобождена от меня аспирантская «двухместка», мой коллега с кафедры математического анализа мог удовлетворять без визитов в Филармонию. Ему было достаточно прогуляться по двенадцати этажам и заглянуть на кухни – ну, в крайности спуститься вниз и перейти через площадь в соседний корпус, числящийся под тем же номером 66 по улице Ботанической.
А мне было замечательно тут – как может быть человеку в возрасте неполной четверти века, когда весь век еще остается впереди.
Сегодня я чувствовал себя изумительно.
Солнце сияло за немытыми с позапрошлой осени стеклами, запах свежей мимозы пластами слоился по комнате, из угла звучала «Пиковая дама» с Атлантовым и Образцовой…
Я лежал на кровати, копя силы к вечеру и позволив себе отложить до завтра… или даже до послезавтра очередную страницу введения, которое начал понемногу писать.
* * *
-…Славк, а Славк… К тебе можно?..
– Можно, дядя Гриня, – ответил я.
Мужа Елизаветы Ивановны я любил не меньше, чем ее саму. Дядя Гриня был профессиональным шофером и тихим домашним пьяницей – вероятно, по последней причине соседка обожала меня как жильца непьющего и потому не представляющего опасности.
Дядя Гриня тоже любил меня и не упускал случая поговорить. Но отличался деликатностью и, постучавшись, в случае незапертости двери проходил только до шкафа. Если я сидел над своей чертовой диссертацией, он вздыхал и удалялся; если же нет, то молча ждал приглашения.
– Входите, дядя Гриня, – предложил я и сел на кровати.
– Славка, завтра восьмое марта, – сказал он, примостившись на стул у моего маленького стола. – Вот решил тетю Лизу поздравить.
Мне дядя Гриня аттестовал жену тетей Лизой, как мог бы называть ее я, не произведя в генералы. К ней самой обращался не иначе, как «мамочка».
– Хорошее дело, – подтвердил я.
– Вот подарок купил. В галантерее на Староневском – знаешь, эта вот, длинная, где и расчески и одеколоны и все такое? От нас выйти, через два двора и на другую сторону?
Я кивнул. Дядя Гриня аккуратно сдвинул мой рукописный развал, извлек из кармана нечто в белой упаковочной бумаге, обвязанное крест-накрест нитяной ленточкой, и положил на край стола.
– «Пиковая дама»… Говорят, хорошие духи?
– Зашибенские, – ответил я.
И сразу вспомнил, что такие когда-то были у моей мамы. Тяжелый стеклянный параллелепипед с квадратным основанием и выдавленными на боковых гранях знаками карточных мастей. Мне страшно нравилась пробка – притертая так хорошо, что всякий раз казалось, будто я открываю ее первым из всех. Правда, те духи были в огромной коробке с бархатным ложементом – в этом сверточке мог уместиться лишь один флакон, да и то уменьшенного объема. Но времена менялись, причем явно не в лучшую сторону; мне не хотелось расстраивать соседа и потому я ничего не сказал, а лишь добавил:
– Высший класс. Лизавета Ивановна обрадуется. Я вот ей тоже цветы купил.
– Вот ты, Славка, молодец, – оживился дядя Гриня. – Тебя люблю за то!
Он только сейчас заметил две желтых ветки на окне.
– Я на эту «Пиковую даму» трешку отложил. А она дешевле вышла – коробку на витрине увидел, пальцем ткнул, продавщица квитанцию выписала, в кассе чек пробили и еще сдачу дали. Попросил в бумажку завернуть – похихикала, но духи завернула и даже бантик навязала. Я хотел сразу цветы купить, но решил – домой зайду, оставлю, а то уроню да разобью. Ну, а теперь…
– Так есть же цветы, дядь Гринь, – напомнил я. – Чего вам куда-то идти, на Невском уже нет нигде ничего. От нас двоих, духи и цветы, всего и делов-то!
– Всего и делов-то!
Дядя Гриня засмеялся.
– Цветы есть, деньги остались… За маленькой схожу, а то припасы кончились.
Я вздохнул.
«Больших» в нашем доме не водилось: проспиртованному насквозь организму было достаточно «маленькой».
Которую сегодня спровоцировал я, по глупости предложив совместное поздравление.
Но укорять себя не имело смысла: моя мимоза служила лишь поводом, не найдись ее – нашелся бы другой. Бороться с дяди Грининым пьянством было все равно, что детской лопаткой отгребать снежную лавину.
* * *
-…Тихо, муха, не гуди!!!..
Я вздрогнул, только сейчас поняв, что улетел куда-то в эмпиреи.
А сейчас проснулся от громких голосов на кухне. Спал я, конечно, недолго: Германн еще объяснялся с Лизой в несуществующей любви. Но за это время соседка пришла с работы, а дядя Гриня…
–…Я тебя, мамочка, с праздником поздравил, при том…
– Ты еще и напритомиться успел?!
Имелся за дядей Гриней грех: пьяненький, он через каждое слово говорил «при том». Это меня не удивляло: мой собственный дед, быв когда-то начальником в городе на Урале, выучился местному языку. И стоило ему выпить хоть стопку, как по одному лишь «иптэш» – в устах башкирина означавшего «товарищ» – бабушка определяла непозволительное состояние.
–…Ты меня…
– Иди с глаз долой, а то по башке тресну, мало не покажется!
Хлопнула входная дверь; дядя Гриня убежал к сыну – такому же пьянице, но живущему отдельно.
Милой Елизавете Ивановне вряд ли хватило для праздника духов, которые выпивший муж вручил кое-как, забыв позвать меня с мимозой.
Соседку стоило утешить.
Я пригладил волосы перед зеркалом, взял из бутылки душистый веничек, стряхнул воду на пол и пошел на кухню.
* * *
– Спасибо, Слава, – в десятый раз повторила соседка.
И поставила мне на стол тарелку горячих пирожков.
– Товарищ генерал, я же лопну! – для порядка отказался я.
– Ешь, давай – худющий, как черт…
Я блаженно улыбнулся.
–…Ты мне цветы принес. А уж он – поздравил так поздравил!
-…Мой туз берет!!!
– дрожащим голосом прокричал из моей комнаты Германн.
– Нет, Ваша дама бита!
– ласково ответил Чекалинский.
– Какая дама?
– Дама пик, которую Вы держите в руках!..
-…Смотри, что этот старый пёс подарил мне на восьмое марта!
Я поднял голову.
На соседском столе лежала коробочка игральных карт, с которой ехидно улыбалась пиковая дама.
Пари
Памяти Игоря Николаевича Максимова
– моего старшего друга,
кандидата химических наук,
Черноморского боцмана,
Соловецкого юнги
I
Звали боцмана Василием Ивановичем.
Родись он лет на пятьдесят позднее – ему наверняка не дали бы проходу из-за имени-отчества. Но в предвоенные времена к Чапаеву относились крайне серьезно, анекдотов про него никто не рассказывал и даже не сочинял.
Боцмана тоже уважали – не только на эсминце, но и во всей эскадре. Потому что личностью Василий Иванович считался необыкновенной.
Сколько ему было лет, никто не знал. И на вид определить не мог, поскольку внешность боцман имел самую что ни на есть боцманскую: невысокий, кряжистый и краснорожий, с ног до головы покрытый искусными – в основном неприличными – татуировками, со свисающими вниз усами, он напоминал деловитого моржа, зачем-то вышедшего на сушу и надевшего клеши да тельняшку. Сходство с моржом усиливалось, когда боцман, утирая пот, снимал не по уставу роскошную мичманку, украшенную военно-морским крабом и золотыми листьями вдоль козырька, и обнажал совершенно лысую свою голову. Казалось, таким он и родился: усатым, сплошь разрисованным голыми женщинами и с блестящей дудкой на шее.
Служить Василий Иванович начал еще при самодержце Николае II Кровавом, причем успел достичь истинной профессиональной вершины: перед Октябрьским переворотом был боцманом на черноморском линкоре «Крым». В отличие от Балтики, здешние моряки особо не бунтовали, однако революцию пришлось принять и им. Василия Ивановича новшества коснулись одним из первых: именно ему как хранителю корабельного имущества приказали срочно убрать твердые знаки у названия линкора, вступившего в новую жизнь. Боцман политикой не интересовался: его обязанностью оставался порядок на корабле, который необходим при любой власти – однако приказ выполнил. Отвинтил с бортов тяжелые латунные буквы – и вместо того, чтобы бросить в море, сунул их куда-то в каптерку. Без всякой задней мысли: просто в принципе не мог взять да выбросить совершенно исправные и достаточно дорогие изделия. На этих злосчастных литерах он едва не погорел в двадцатые годы, когда их обнаружила какая-то внезапно нагрянувшая комиссия и на радости чуть не пришила хозяйственному Василию Ивановичу участие в контрреволюционном заговоре, увидев в спрятанных твердых знаках надежду на возврат старых времен. Спасло боцмана лишь то, что он оказался неграмотным и по той причине ему не удалось инкриминировать чтение тайных прокламаций. Однако с линкора его все-таки списали: за «приверженность к старому режиму».
Лишь через несколько лет, прибегнув к неизвестно каким ухищрениям, Василий Иванович сумел вернуться на флот – без которого не мыслил своей жизни.
Обладал он необходимейшим для истинного боцмана свойством: всегда бодрствовал и находился везде одновременно; только что его видели на полубаке а через секунду посвист его дудки слышался с юта. Когда он спал или просто отдыхал, не знал никто, включая командира эскадренного миноносца «Уверенный», капитана третьего ранга Цикорадзе. И вся бурная жизнь большого военного корабля проходила под строгим боцманским оком. Которое все видело и ничего не оставляло без внимания.
И если вдруг солнечным днем, гулко раскатываясь над соленым простором Севастопольского рейда – так, что оборачивались легконогие девушки, поднимавшиеся по Адмиральской лестнице об руку с белозубыми моряками, – гремел хриплый и яростный бас:
– Да что ж ты делаешь, морсофлот полорукий!!! Мать твою разъедрит в иже херувимы через шестьсот шестьдесят шесть коромысел, и т.д. …
– то это означало, что один из юнгов, которому было поручено подкрасить шаровой краской слегка облупившуюся дверь ходовой рубки, зазевался, уронил на палубу кисть и не успел вовремя затереть серое пятно.
Матерщинником Василий Иванович был виртуозным; все боцмана, конечно, умели крыть во много этажей: сквернословие с основания мореходства служило главным его инструментом, – но хозяин «Уверенного», прошедший крепкую царскую школу, среди других считался Моцартом. Тем более, что в отличие от незадачливого героя Соболевских морских рассказов, он не имел на этот счет притеснений; боцмана никто никогда не пытался отучить от ругани: командование понимало, что оставшись без мата, военный флот сделается хуже торгового.
В итоге стараний Василия Ивановича эсминец, отдраенный и вылизанный, всегда сиял, как только что отчеканенная монета, и по нему можно было пройти в белом кителе даже через машинное отделение. «Уверенный» считался образцовым кораблем эскадры, что служило предметом тихой гордости его командира – тоже всегда подтянутого, стремительного, и выбритого до зеркальной синевы.
Кроме того, имелась у боцмана одна особенность, равной которой уж точно не имелось на всем флоте: он всегда был пьян.
Нет, Василий Иванович не слыл ни выпивохой, ни тем более пьяницей; свои боцманские обязанности он выполнял с точностью флотского хронометра, но при этом постоянно находился в нетрезвом состоянии. Самым удивительным оказывалось, что во-первых, никто никогда не видел, как боцман прикладывается к бутылке, а во-вторых – степень опьянения Василия Ивановича оставалась неизменной в любое время суток. Что само по себе являлось загадкой, непостижимой для обычного человека.
Когда «Уверенный» занял первое место в строевом смотре кораблей эскадры, на борт поднялся сам контр-адмирал – поблагодарить команду и вручить заслуженные награды – и, естественно, боцман тоже не был обойден почетной грамотой.
Получая ее из рук командующего, он так оглушительно гаркнул:
– Служу! Трудовому!! Народу!!!
– что испуганно взлетели и заорали кружившиеся около камбуза чайки.
Контр-адмирал же отшатнулся, повел носом и сказал вполголоса:
– После вас, Василий Иванович, хоть закусывай, ей-богу…
Никто вроде бы этого не слышал, но в тот же день везде – от машинного отделения до ходового мостика – стало известно, что комэск Семенцов вместо предложенного стакана спирта попросил боцмана на него дохнуть, после чего закусил и покинул корабль, в стельку пьяный и совершенно довольный.
Черноморский флот – как любой нормальный флот вообще – никогда не слыл запьянцовским. И неудивительно, что вскоре после адмиральского визита этого боцмана вызвал командир корабля – который, зная Василия Ивановича много лет, до сих пор как-то не обращал внимания на его перманентное состояние.
– Что ж ты, Василий Иваныч, меня перед командующий позоришь, ай?! – укоризненно начал Цикорадзе, быстро шагая из угла в угол своей маленькой каютки. – Неужели не мог даже в такой день к спирт не прикладываться?
– Да вот те крест, Григорий Григорьич, – ничтоже сумняшеся, боцман обмахнул могучую грудь давно запрещенным на военно-морском флоте крестным знамением. – Сто хренов мне в глотку… и т.д., и т.п., и пр. – если вру! Я не пил и не пью никогда. Это все он!
– Кто – «он»? – переспросил капитан третьего ранга.
– Да грибок, его в гробину мать… – вздохнул Василий Иванович.
– Какой-такой грибок, вах?! – непонимающе уставился Цикорадзе.
– Специальный. Нешто вы не знаете, товарищ капитан третьего ранга?! – боцман широко развел руками, влюбленно глядя на своего командира, и даже усы его, кажется, выразили покорное удивление.
Командир молчал, и боцман сокрушенно пояснил:
– Да мамка моя… Когда я еще мальцом был – опоила меня случайно какой-то гадостью…
– И что? – спросил Цикорадзе. – Ты с тот день до сих пор пьяный?!
– Да нет, Григорий Григорьич, хуже, – боцман потупился. – У меня в желудке грибок завелся. Особенный. Ученое название имеется, только я забыл. Сидит во мне, понимаешь, и любую жидкость перерабатывает в спирт. Стоит чего-нибудь хлебнуть – р-раз, и спирт готов! Ну, ясное дело, я сразу пьяный становлюсь. Без всякой сознательной вины.
– Как? – Цикорадзе выпучил глаза. – Прямо так и… пьяный?!
– Ну да. Совершенно пьяный.
Цикорадзе недоверчиво покачал головой, не зная, что сказать.
– Хоть чайку попью, хоть компоту, – пояснил Василий Иванович. – Да хоть самую что ни на есть воду – все в спирт перегоняет, проклятущий.
– Даа…– протянул Цикорадзе.
– Но не могу же я, того, даже воды не пить, – почти жалобно сказал боцман.
– Да, – все еще находясь в изумленно-рассеянном состоянии, подтвердил капитан третьего ранга. – Вода не пить нельзя.
Боцман развел руками, выражая завершение темы, и вышел вон.
Спрятавшись в каптерке, он взглянул на грамоту, врученную контр-адмиралом. Читать Василий Иванович за столько лет так и не научился, – нужды не было на его должности – но награда, аккуратно забранная под стекло одним из корабельных умельцев, висела в красном углу, как икона, тускло поблескивая золочеными портретами вождей. Сейчас боцману показалось, что оба смотрят на него укоризненно.
II
Трудно сказать, проболтался ли кому-то командир, или просто кто-то услышал их разговор. Но очень быстро слава о таинственных процессах, идущих в организме боцмана с эсминца «Уверенный» облетела весь Севастопольский рейд. И на корабль началось паломничество. Одни заглядывали просто поглазеть. Другие же под страшным секретом пытались выведать, нельзя ли как-нибудь заразиться чудесным грибком.
Василий Иванович отмалчивался, пряча усмешку под моржовым усами, и лишь иногда открывал рот, чтобы покрыть особо назойливого просителя в бога, душу и богородицу – но этим только разжигал извечное флотское любопытство.
Сам Цикорадзе видел всплеск интереса к своему боцману и невольно стал к нему приглядываться повнимательнее. И отметил, что Василий Иванович действительно всегда нетрезв. Но при этом командир ни разу не мог уследить, когда тот выпивал: боцман был на виду, под рукой, при деле, в любое время суток. Ел вместе со всеми в кубрике, а где пил – непонятно.
Глубоко разведывать тайну боцманского пьянства капитан третьего ранга не стал. Недосуг было; к тому же нетрезвое состояние боцмана никак не сказывалось на безупречном облике его корабля.
Но однажды, наслушавшись рассказов о странных свойствах Василия Ивановича, к Цикорадзе пришел его закадычный друг и вечный насмешник – командир эсминца «Спокойный» капитан-лейтенант Деревянко.
Находясь с Цикорадзе в состоянии искренней дружбы, он все-таки слегка тому завидовал: и более высокому званию, и признанно образцовому состоянию корабля. Теперь известие о чудо-боцмане пробудило в душе капитан-лейтенанта недоверие, замешанное на той же легкой зависти, и он решил развеять миф, заодно в очередной раз посмеявшись над доверчивым Цикорадзе.
Явился он под вечер в субботу. Офицеры поболтали о том и о сем, и наконец, взглянув с хитрой малороссийской усмешкой, Деревянко свернул разговор на боцмана, поинтересовавшись, как тому удается быть все время полупьяным. Цикорадзе слово в слово пересказал историю про грибок.
– Та не верю я, – с вкрадчивой мягкостью отмахнулся Деревянко. – Який-такий грибок… Брехня все это, Гия. Не верю.
– Так спроси у него самого, – ответил Цикорадзе и крикнул вестовому: – Боцмана к командиру!!!
Через пять секунд Василий Иванович перешагивал комингс командирской каюты.
– Вызывал, Григорий Григорьевич? – спросил он, привычно дохнув уютным спиртовым духом.
И тут же спохватился, увидев постороннего офицера – вытянулся во фрунт, вскинул ладонь к козырьку и заревел уставным басом:
– Товарищ капитан т… ранга! Главный корабельный стар-ршина…
– А-атставить, а-атставить, Василь Ваныч! – замахал руками оглушенный Цикорадзе. – Заходи, присядь. Вот тут Афанасий Петрович, видишь, не верит, что у тебя в желудок этот самый… как он?
– Грибок, – подсказал боцман.
– Ну да, грибок… Расскажи вот ему.
– А шо рассказывать, – усмехнулся Деревянко. – Все одно не поверю.
– А зря, товарищ капитан-лейтенант, – покачал головой боцман.
Звание Деревянко он произнес раздельно и четко, подчеркивая его явную недостаточность. Тогда как ранг своего обожаемого командира просто проглотил – в душе мечтая о скором повышении Цикорадзе.
– Зря, – повторил он. – Научно подтвержденный хвакт. Если бы… – боцман значительно понизил голос и поднял палец, искоса глядя на висящий над столом портрет Сталина. – Если бы не предвоенное время, меня сейчас бы академики в анбулаторию положили, исследовали по полному ранжиру, и так далее, в тридцать три света и в мутный глаз… Мировая известность «Уверенному» бы пришла.
– Да уж, «мировая», – продолжал смеяться Деревянко. – А я не верю. Ни в какие грибки. Не-ве-рю, и все.
– Не веришь? Меня нэ уважаешь?! – от волнения сбиваясь на грузинский акцент, Цикорадзе вскочил, едва не стукнулся макушкой в низкий подволок. – Савсэм нэ уважаешь?!
– Да уважаю я тебя, успокойся, Гия, – схватил его за руку Деревянко. – И верю тебе. И Василию Иванычу верю. А вот в грибок ваш – увольте. Не верю!
– А я докажу!!! – продолжал горячиться Цикорадзе; признаться честно, он и сам не сильно верил в россказни боцмана насчет загадочного грибка, но недоверие друга возмутило, и он закусил удила. – Докажу!!!
– Докажешь? – наклонил голову Деревянко. – Спорим?!
– Спорим!!! – крикнул Цикорадзе. – Заключим этот самый… как буржуи говорят… пари. Пари, вот!
– Согласен, – капитан-лейтенант хитро сощурился. – А на что спорим?
– На что… на что…– Цикорадзе метнулся взглядом по своей строгой каюте, словно пытаясь отыскать в ней самый ценный предмет. – Да хоть на что угодно!!!
Боцман и Деревянко молчали, глядя на нешуточно разошедшегося командира «Уверенного».
– Да хоть на это!!! – не найдя ничего вокруг, Цикорадзе сунул руку во внутренний карман кителя и извлек самое ценное и самое святое, что имел – предмет своей гордости и завистливого восхищения всех прочих командиров: золотые часы.
Часы эти были поистине знатные, с множеством маленьких циферблатов, секундомером и хронометром, а главное – с гравировкой под крышкой:
«Командиру эскадренного миноносца «Уверенный» капитану третьего ранга Григорию Григорьевичу Цикорадзе от командования Черноморского флота за отличные показатели на боевых стрельбах эскадры.»
Боцман, охнув, снял мичманку и вытер рукавом тельняшки вмиг вспотевшую лысину.
– Да ну, брось, Гия! – испугавшись своего же предложения, воскликнул капитан-лейтенант. – Пошутили, и будет.
Но Цикорадзе, обычно простодушный, как ребенок, в решительные минуты был непоколебим.
– Нет, Опанас! Ты шутить – я нэ шучу! – отрезал он, вероятно, уже плохо представляющий, что из всего этого может выйти. – Ты мне нэ веришь, Василию Ивановичу нэ веришь – так вот будешь вынужден павэрить.
И решительно положил часы на стол.
– Нуу… – протянул Деревянко, видя, что отступления не предвидится. – У меня-то таких нема. Ящик самолучшей горилки против твоих часов – пойдет?
– Пойдет. Все пойдет! – согласился Цикорадзе. – Потому что все равно я выиграю.
Боцман похолодел, поняв, что судьба командирской реликвии повисла на волоске.
Условия пари были выработаны тут же и оказались предельно жесткими.
Завтра на рассвете боцману предстояло отправиться на отдаленную причальную бочку. Имея с собой лишь запас пресной воды – от сухого пайка он отказался наотрез, заявив, что начал обрастать жиром, и ему будет не вред похудеть под солнышком. На этой бочке Василий Иванович проведет весь день в полной изоляции от внешнего мира. Что будет контролироваться наблюдателями с корабля противной стороны. Результат подведется вечером, когда шлюпка снимет его с бочки и доставит обратно на «Уверенный». В случае, если боцман окажется трезвым – точнее, не более пьяным, чем был утром – пари считается проигранным, и бесценные часы переходят к Деревянко.
В случае же, если боцман вернется пьяным….
Впрочем, в такой исход операции, кажется, не верил уже и сам Цикорадзе.
III
Чуть забрезжил рассвет, у причального выстрела уже качалась шлюпка со «Спокойного». Одетый в парадный китель капитан-лейтенант Деревянко поднялся на борт, чтобы самолично проконтролировать подготовку к высадке. Осмотрел приготовленный бочонок, проследил, как его наполняют водой на камбузе и попробовал, действительно ли это вода.
Василий Иванович, абсолютно спокойный и даже почти трезвый, одетый в одни лишь трусы да полосатую тряпочную шапочку для защиты от солнца, уже ждал на шканцах. Он снял головной убор и вывернул его наизнанку. Потом спустил трусы и повернулся кругом, под сдержанное ржанье краснофлотцев демонстрируя со всех сторон свои мужские достоинства, чтобы Деревянко, не дай бог, не заподозрил, будто он прячет там бутылку со спиртом.
Раздетого боцмана проводили на шлюпку и, усевшись на носу, Деревянко сам повел ее по рейду.
Цикорадзе стоял, облокотившись на планшир, и с каждым взмахом весел чувствовал, как от него уплывают золотые часы.
Он давно раскаялся во вчерашнем необдуманном вызове, но не в его характере – и не в образе советского военного моряка! – было брать назад свои слова. И сейчас он грустно смотрел вслед удаляющемуся боцману, всецело положившись на судьбу.
Золотые часы, участь которых казалась уже решенной, так и лежали на столике в его каюте. Капитан третьего ранга даже не спрятал их в карман, словно заранее простившись с дорогой вещью.
Поднявшись на мостик и взяв бинокль, он посмотрел, как шлюпка пристала к одной из самых уединенных бочек, куда швартуются лишь в случае чрезмерного количества судов на рейде. Как боцман, держа бочонок подмышкой перелез туда и, помахав рукой, лег на спину загорать.
Цикорадзе вздохнул и ушел к себе. Несмотря на воскресный день, у командира боевого корабля всегда имелась куча дел. Но сейчас капитан третьего ранга был не в состоянии что-то делать. Он сидел у отдраенного иллюминатора, сквозь который солнце бросало в каюту неуместно веселые блики от вечно перебегающих волн, и искоса поглядывал на свои потерянные часы.
Так прошел день. Цикорадзе без аппетита позавтракал и пообедал. И весь корабль затих вместе с ним: все, от заместителя командира до юнги, уже знали про дурацкое пари. И чувствовали, что в данном случае решается не просто судьба командирских часов, а нечто большее. Что боцман Василий Иванович борется за… если бы они знали в те времена такое слово, то сказали бы – за престиж родного корабля.
Со «Спокойного» несколько раз семафорили флажками: ехидно спрашивали, сколько времени и исправны ли командирские часы. Цикорадзе приказал вахтенным на провокации не реагировать и ничего не отвечать.
Он часто поднимался на мостик и смотрел в бинокль. Василий Иванович вел себя безмятежно. Словно отдыхал от своих боцманских трудов. В основном спал, загорая на тихонько покачивающейся бочке. Временами прикладывался к своей воде, иногда спрыгивал в море и, охлаждаясь, плавал кругами. Место высадки Деревянко выбрал так, что между боцманом и «Спокойным» ни разу не прошел не только корабль – по воскресному дню движения не было – но даже ни одна шлюпка с уволенными на берег моряками. Никто не смог подойти незаметным к и тайно передать боцману спирт. Впрочем, Цикорадзе не собирался этого делать: в любых жизненных ситуациях он вел только честную игру.
Ему было стыдно за свою мальчишескую выходку. Тем более, что золотые часы, которые он практически уже проиграл хитрому Деревянко – а еще друг, называется… – эти командирские часы, по сути, не были собственностью одного лишь командира. Он получил их за отличные боевые стрельбы его эсминца – за слаженные и отточенные действия всей команды. И теперь поставил на кон честь корабля. Капитан третьего ранга проклинал себя, и в то же время смутно ощущал, что заключив пари – доверившись своему боцману – он проявил ту степень доверия члену команды, без которой невозможно было даже думать пойти с этой командой в бой. И что хоть повод глуп, но проверка нешуточна.
И шагая из каюты на мостик и обратно, Цикорадзе дальним, детским уголком своей души молил о невероятном стечении обстоятельств и воли, которые позволили бы боцману с честью выйти из этой ситуации. Как положено настоящему русскому моряку.
Солнце уже клонилось к расплавленному золоту моря, когда под бортом «Уверенного» опять показалась соседская шлюпка. Бодрым пружинистым шагом Деревянко вошел в каюту капитана третьего ранга. Увидел на столике золотые часы, хмыкнул, взял их в руки, поднес к уху, улыбнулся удовлетворенно и снова положил их на стол. С таким видом, что лишь случайно вернул их на место, а не сунул в свой карман. Большие черные, всегда немного грустные глаза капитана третьего ранга стали еще больше – и еще грустней.
– Пора снимать Василий Иванович, – первым сказал Цикорадзе. – Скоро стемнеет.
– Есть снимать боцмана! – издевательски отдал честь Деревянко и пошел к шлюпке.
Цикорадзе остался у борта, ожидая своего позора. Бочка колыхалась на волнах в нескольких кабельтовых от «Уверенного» – и он ничего не видел без бинокля. Заметил только, как шлюпка подошла туда, постояла некоторое время, а затем неторопливыми толчками стала приближаться к эсминцу.
Вот она была уже рядом. Вот и сам Деревянко как-то растерянно взобрался на выстрел и, нагнувшись, протянул руки кому-то вниз. И наконец Цикорадзе увидел боцмана. Тот еле держался на ногах.
Неужто старика хватил солнечный удар?! – с ужасом подумал капитан третьего ранга. – Да будь я проклят за такую игру! Да я…
Втащенный двумя матросами по штормтрапу, боцман ступил на палубу. Глаза его были закрыты.
– Гамарджоба, батоно!!! – не в себе от волнения, совершенно невпопад и не к месту закричал Цикорадзе на уже порядком забытом грузинском языке. – Василий Иваныч!!!!
– Хас-булат уда-алой,
Бедна сакля тва-аяа!!
– неожиданно четко пропел боцман и открыл глаза.
– Грибок окаянный… В загробные рыдания, – пробормотал он. – Всегда животворяще господа! Совсем на солнце распоясался, мочи нет, в стоса его и в Спаса и в митрополита Санкт-Петербургского…
Боцман взмахнул руками, пытаясь ухватиться за леер и повалился, как куль, в объятия командира.