Вождь краснокожих О.Генри
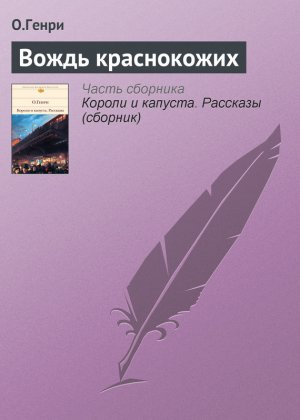
Арестант № 34 627
История мировой литературы знает не так уж много имен подлинных мастеров короткого рассказа. Среди них такие прославленные имена, как Антон Чехов, Акутагава Рюноскэ, Орасио Кирога, Стивен Кинг, сюда же с полным правом причисляют и Уильяма Сидни Портера, избравшего для себя литературный псевдоним О. Генри (1862–1910).
Короткий рассказ – это вовсе не малозначительный литературный жанр, наоборот: многие авторы пробовали себя в нем, но мало кому удавалось добиться успеха. Несколько страничек, вмещающие в себя коллизии целой жизни, с выпукло очерченными героями и яркими характерами, с тонким юмором и глубокими чувствами, полные неожиданностей и сюжетного остроумия, – это «высший пилотаж» литературы, отточенное мастерство, точная и правдивая передача реальности, простота и блеск стиля, что называется, «в одном флаконе».
Что касается знания жизни, то Биллу Портеру его было не занимать. За неполные 48 лет, насыщенных драматическими событиями, он повидал и пережил все, что судьба могла уготовить человеку из низов в Америке конца XIX в. Осиротевший в три года, он воспитывался под опекой тетки по отцу, учился, чтобы стать фармацевтом, и одновременно работал в аптеке, которой владел его дядя. А спустя несколько лет будущий писатель отправился в Техас, где перепробовал множество профессий и занятий: работал на ранчо, служил в земельном управлении, был кассиром и счетоводом в банке. В 1894 г. Портер начал издавать в техасском городе Остин юмористический еженедельник «Роллинг Стоун», почти полностью заполняя его страницы собственными очерками, миниатюрами, шутками, стихами и даже рисунками. Журнал просуществовал всего год, а затем произошло событие, которое коренным образом изменило жизнь его издателя.
В банке, где по-прежнему работал Билли Портер, обнаружилась недостача. Дело было накануне ревизии, и искать подлинного виновника было уже некогда. Стало ясно, что всю вину возложат на кассира. Билли не стал дожидаться обвинений и предпочел скрыться, оставив в Остине молодую жену. Сначала он переезжал из города в город, прячась под вымышленными именами, а затем махнул через мексиканскую границу.
Так начались его скитания по Центральной и Южной Америке, где Портер оказался среди янки-авантюристов, промышлявших различными сомнительными способами среди доверчивых туземцев. В 1898 г. его догнало известие о тяжелой болезни жены, и он без промедления вернулся в США. К несчастью, жена уже умерла, и не успел умолкнуть голос священника, который вел заупокойную службу, как Портер был арестован, осужден и препровожден в тюрьму города Коламбус (штат Огайо), где и провел следующие три года как заключенный № 34 627.
В тюрьме Уильям Портер работал в лазарете и тюремной аптеке, тогда же он начал писать рассказы – совсем иного содержания, чем те, что когда-то печатались в его журнале: тонкие, пронизанные грустной иронией, с неожиданными развязками. Их героями стали те, с кем он жил бок о бок, – люди американского дна, бродяги, жулики, мошенники и мелкие гангстеры. Первый из этих рассказов – «Рождественский подарок Дика-Свистуна» – был опубликован в популярном журнале «Мак-Клюрз Мэгезин» в 1899 г. под псевдонимом О. Генри. Подлинное имя автора осталось неизвестным редакции, а гонорар за рассказ, полученный заключенным, был истрачен на рождественский подарок его единственной дочери, воспитывавшейся у дальних родственников.
Однако судьба готовила писателю новый сюрприз – на сей раз куда более приятный. Читатели заметили нового автора, и уже к моменту выхода на волю таинственный О. Генри, присылавший свои рассказы в редакции через третьих лиц, пользовался известностью, а издатели буквально охотились за ним. Но еще в течение двух лет он оставался в тени и лишь в 1903 г. приехал в Нью-Йорк, где один из крупных журналов предложил ему контракт – писать по рассказу в неделю.
Так перестал существовать арестант № 34 627, он же Уильям Сидни Портер, и родился выдающийся американский писатель О. Генри.
Его литературное наследие составляет 18 томов – это 273 рассказа и роман «Короли и капуста». Незадолго до смерти от тяжелой болезни сам О. Генри утверждал: «Все, что я писал до сих пор, это просто баловство, проба пера, по сравнению с тем, что я напишу через год». И эта самооценка оказалась совершенно неверной: свое исключительное место в истории литературы начала XX в. писатель занял как блистательный мастер «малого» жанра, создатель уникальных сюжетов, великолепных диалогов и неожиданных финалов, в которых зазвучали голоса всей Америки – от миллионеров и политиков до прачек, мелких спекулянтов и клерков. Но главное в этих рассказах даже не сюжеты, а теплота и подлинная человечность, которые чувствуются буквально в каждой строчке, вышедшей из-под его пера.
Из сборника «Благородный жулик»
Персональный магнетизм
Джефф Питерс владел самыми разнообразными способами добывания денег. Их у него имелось примерно столько же, сколько в Южной Каролине рецептов блюд из риса.
Мне нравилось слушать его рассказы о тех временах, когда он был молод, торговал вразнос мазями от ревматизма и порошками от кашля, голодал и порой ставил на кон последний медяк, чтобы сыграть в кости с судьбой.
– Заявился я как-то в поселок Фишермен Хилл в Арканзасе, – рассказывал он. – Были на мне штаны из оленьей замши, мокасины, длинные волосы, а на пальце – перстень с брильянтом размером с лесной орех, который я получил от одного актера в Тексаркане в обмен на перочинный ножик.
В ту пору я звался доктором Вуф-Ху, знаменитым индейским знахарем и целителем, и в руках у меня не было ничего стоящего, кроме одного снадобья – «Воскрешающей настойки». Состояла она из трав, будто бы открытых супругой вождя племени чокто по имени Та-ква-ла. Красавица собирала зелень, чтобы украсить традиционное блюдо, подаваемое во время праздника Кукурузы, – и наткнулась на эту траву.
В городишке, где я побывал до того, дела шли хуже некуда: у меня оставалось каких-то пять долларов. Поэтому, прибыв в Фишермен Хилл, я отправился в аптеку и взял взаймы сотню склянок. Этикетки и прочие припасы лежали у меня в чемодане. Я снял номер в гостинице, где имелись раковина и кран, и вскоре склянки с «Воскрешающей настойкой» начали выстраиваться передо мной на столе. Жизнь снова показалась мне вполне приемлемой.
Жульничество? Ни в коем случае, сэр. Ведь там была не только вода. Я честно добавил в нее хинина на два доллара и на десять центов безвредного красителя. Спустя много лет, когда я снова побывал в тех краях, люди досаждали мне просьбами продать им еще порцию-другую волшебного средства.
Ближе к вечеру я раздобыл тележку, выкатил ее на Мэйн-стрит и приступил к торговле. Надо вам знать, сэр, что Фишермен Хилл расположен в болотистой и крайне нездоровой местности. Оттого и настойка моя шла бойко, как сэндвичи с ветчиной на вегетарианском обеде. Я успел распродать дюжины две склянок по полдоллара за штуку, как вдруг почувствовал, что кто-то тянет меня сзади за полу.
Мне ли не знать, что это означает! Недолго думая, я сунул бумажку в пять долларов в лапу субъекту с серебряной звездой на груди.
– Шериф[1], – говорю, – чудный нынче выдался вечерок!
А он в ответ:
– Имеется ли у вас патент городских властей на право продажи отравы, которую вы нахально зовете лекарством?
– Нет, разумеется, – говорю я, – так ведь я и не знал, что это город. Раз так – завтра же позабочусь о патенте.
– Ну а пока я вынужден прикрыть вашу коммерцию, – заявляет полисмен.
Я свернул торговлю, а по возвращении в гостиницу рассказал ее хозяину о том, что случилось.
– Да уж, – говорит он. – Тут у нас развернуться вам не дадут. А знаете почему? Зять мэра доктор Хэскинс – единственный врач на весь город, и мэр не допустит, чтобы какой-то самозванец отбивал у него пациентов.
– Так ведь я же не занимаюсь медициной, – говорю. – У меня разрешение от правительства штата на розничную торговлю, а когда местные власти требуют особый патент, я просто плачу за него, и все.
Наутро я отправляюсь в офис мэра, но мне говорят, что он еще не появлялся и когда появится – совершенно неизвестно. Так что доктору Вуф-Ху приходится снова вернуться в гостиницу, усесться поудобнее, раскурить сигару и ждать.
Вскоре подсаживается ко мне молодой человек приятной наружности в синем галстуке и живо интересуется, который час.
– Половина одиннадцатого, – отвечаю, – а вы – Энди Таккер. Мне известны кое-какие из ваших делишек. Например, «Универсальная посылка Купидона», которой вы пробавлялись на Юге. Дайте припомнить, что там было… Ага, кольцо для помолвки с перуанским брильянтом, обручальное кольцо, терка для картофеля, флакон успокаивающих капель и портрет Дороти Вернон[2]. Все вместе – полдоллара.
Энди был польщен. Талантливый мошенник, он относился к своему ремеслу с уважением и ограничивался тремястами процентами чистой прибыли. Ему не раз предлагали перейти на контрабанду или торговлю наркотиками, но еще никому не удавалось сбить его с толку.
Мне как раз требовался компаньон. Мы переговорили и быстро пришли к решению поработать в паре. Я поведал о положении дел в Фишермен Хилл и о трудностях в торговой политике ввиду вторжения в нее местной касторки.
Энди прибыл с утренним поездом и еще не успел толком осмотреться. Его дела тоже шли не блестяще, оттого он и намеревался начать здесь сбор пожертвований на постройку нового броненосца в городе Эврика-Спрингс, который, как хорошо всем известно, расположен в пятистах милях от ближайшего побережья. Словом, нам было о чем серьезно потолковать, и мы отправились прогуляться…
На следующий день в одиннадцать утра, когда я сидел в номере, ломая голову, как подступиться к городским властям, является ко мне какой-то чернокожий с просьбой, чтобы знаменитый индейский доктор пожаловал к судье Бэнксу – тот внезапно тяжело захворал. Заодно выясняется, что мистер Бэнкс не только судья, но и исполняет обязанности мэра.
– Я не доктор, – отвечаю я этому дядюшке Тому, – почему бы вам не позвать настоящего доктора?
– Ах, сэр, – гнет свое чернокожий, – доктор Хэскинс уехал из города за двадцать миль[3]… его вызвали к больному. Другого врача здесь нет, а судья Бэнкс плох, очень плох… Пожалуйста, не отказывайтесь, а не то не сносить мне головы.
– Как добрый христианин, я, пожалуй, готов повидаться с мистером Бэнксом, – говорю я, кладу в карман флакон «Воскрешающей настойки» и направляюсь к особняку мэра. Отличный дом: мансарда, черепичная кровля, сад и две чугунные собаки на лужайке перед входом.
Мэра Бэнкса я застаю в постели; из-под простыни торчат только растрепанные бакенбарды да пятки. При этом он издает такие звуки, что, будь это в Сан-Франциско, я бы решил, что снова началось землетрясение. У постели больного топчется молодой человек с чашкой воды в руках.
– Доктор, – лепечет мэр, – я невыносимо страдаю… Часы мои сочтены. Не могли бы вы хоть чем-нибудь облегчить мои мучения?
– Сэр, – говорю, – я не могу назвать себя верным учеником Гиппократа. Я не изучал медицину в университете и пришел просто как человек к человеку выразить сочувствие.
– Я глубоко признателен вам, – отвечает больной. – Доктор Вуф-Ху, это мой племянник, мистер Бидл… Он пытался помочь мне, но безуспешно. О Господи! А-а-а!.. – внезапно завопил он.
Кивнув мистеру Бидлу, я присаживаюсь и пытаюсь нащупать пульс больного.
– Позвольте взглянуть на ваш язык, – говорю я ему, а затем оттягиваю веко и обстоятельно исследую глазное яблоко. – Когда это началось? – спрашиваю сурово.
– Меня схватило… ох, ох… вчера вечером, – отвечает мэр. – Дайте же мне наконец чего-нибудь, доктор, спасите ближнего!
– Мистер Фидл, – говорю я, – приподнимите-ка штору на окне!
– Не Фидл, а Бидл, – поправляет меня молодой человек.
– Сэр, – говорю я, приложив ухо к спине больного и якобы прислушиваясь, – вы подхватили крайне серьезное супервоспаление клавикулы эпикордиала.
– Господи праведный! – стонет он, – нельзя ли что-нибудь втереть, вправить или вообще что-нибудь?
Я беру шляпу, разворачиваюсь и направляюсь к выходу.
– Куда же вы? – голосит мэр. – Не бросите же вы меня умирать от этих эпикордиалов?
– Только из сострадания к ближнему, – встревает этот Бидл, – вы не должны покидать больного, доктор Хуа-Хо…
– Вуф-Ху, – поправляю я, возвратившись к больному.
– Мистер Бэнкс, – говорю, – у вас остался один шанс. Лекарства уже не помогут. Но существует сила, которая стоит всех аптекарских снадобий вместе взятых, хотя ее использование обходится недешево.
– Что же это за сила? – спрашивает он.
– Пролегомены[4] науки, – отвечаю я. – Победа разума над лакрицей и сарсапариллой[5]. Твердая вера в то, что болезни и страдания существуют только в нашем воображении, а вернее – в нашем подсознании! И я могу вам это продемонстрировать!
– О каких таких пролегоменах вы толкуете, доктор? – хрипит мэр. – Вы, случайно, не анархист?
– Я говорю о великой доктрине психического воздействия, о самом передовом методе лечения всех болезней – от абсурда до менингита, о поразительном явлении, известном как персональный магнетизм.
– И вы, значит, способны это проделать, доктор? – спрашивает мистер Бэнкс.
– Я один из членов синедриона[6] Внутреннего Храма, – говорю я. – Хромые начинают говорить, а слепые ходить, как только я начинаю свои пассы[7]. Я – известный медиум и гипнотизер. На сеансах в Анн-Арбор только при моем посредстве покойный председатель тамошнего акционерного общества «Лесоторговля Морли» мог возвращаться на Землю для бесед со своей сестрой Джейн. И хотя в настоящее время я продаю лекарства для бедных и не занимаюсь магнетической практикой, на то есть причина: я не желаю унижать свое высокое искусство грошовой оплатой – много ли возьмешь с бедноты!
– Возьметесь ли вы вылечить меня магнетизмом? – спрашивает мэр.
– Сэр, – говорю я, – повсюду, где мне случается бывать, я сталкиваюсь с затруднениями со стороны официальной медицины. Поэтому я не занимаюсь практикой, но ради спасения человеческой жизни… Пожалуй, я рискну, но при одном условии: вы, как мэр, не станете обращать внимания на отсутствие у меня патента.
– О чем речь! – говорит он. – Только приступайте поскорее, доктор. Я чувствую, как снова начинается приступ жестоких болей!
– Мой гонорар составляет двести пятьдесят долларов, – говорю я, – излечение потребует двух сеансов.
– Отлично, – говорит мэр, – я готов заплатить. Моя жизнь стоит этих денег.
Я снова сел у изголовья кровати и принялся сверлить его взглядом.
– А сейчас, сэр, – сказал я, – постарайтесь отвлечься от вашей болезни. Вы совершенно здоровы. У вас нет ни сердца, ни суставов, ни желудка, ни печени – буквально ничего. Вы не испытываете ни малейшей боли. Признайтесь – ведь вы ошибались, считая себя больным. И вот боль, которой вы никогда не испытывали, улетучивается из вашего тела.
– Черт возьми, доктор, мне и в самом деле как будто легче, – говорит мэр. – Прошу вас – продолжайте врать, будто я здоров и у меня нет никакой опухоли в левом боку. Похоже, еще немного, и меня можно будет приподнять в постели и подавать завтрак.
Я, как сумел, сделал еще несколько магнетических пассов.
– Вот, – говорю, – воспаление пошло на убыль. И отек правой лопасти перигелия[8] заметно уменьшился… Теперь вас клонит ко сну. Ваши глаза слипаются. Течение болезни временно прервано. Спать!..
Тут мэр закатывает глаза, опускает веки и начинает храпеть.
– Обратите внимание, мистер Тидл, – говорю я, – на что способна современная наука.
– Бидл, – поправляет меня он. – Когда же состоится второй сеанс для окончательного исцеления дядюшки, доктор Ху-Пу?
– Вуф-Ху, – в свою очередь поправляю я. – Завтра в одиннадцать утра. Когда мистер Бэнкс проснется, дайте ему выпить восемь капель скипидара на стакан воды и два фунта[9] доброго бифштекса.
С этим я и откланялся.
На следующее утро я прибыл точно в назначенное время.
– Ну, что, мистер Ридл, – осведомился я по пути в спальню, – как себя чувствует ваш дядюшка?
– Мне кажется, ему заметно полегчало, – отвечает молодой человек.
И действительно, цвет лица и пульс у мистера Бэнкса оказались в полном порядке. Я провел второй сеанс, после которого он объявил, что боли окончательно улетучились.
– Превосходно, – говорю я, – теперь вам следует денек-другой провести в постели, и вы будете полностью здоровы. Вам повезло, что я оказался в Фишермен Холл именно в это время, так как никакие средства, применяемые официальной медициной, уже не смогли бы вас спасти. Теперь же, когда окончательно доказано, что ваша болезнь – всего лишь результат самовнушения и не больше, поговорим о более приятных вещах – например, о моем гонораре. Сразу предупреждаю: чеки я не принимаю, только наличные.
– Разумеется, – мэр извлекает из-под подушки бумажник, отсчитывает пять пятидесятидолларовых бумажек, однако продолжает держать их в руке. – Бидл, – говорит он, – возьмите у доктора расписку в получении.
Я царапаю расписку, и мэр вручает мне деньги, которые я прячу в потайной карман.
– А теперь делайте свое дело, сержант, – произносит мэр, ухмыляясь, как вполне здоровый.
И мистер Бидл опускает руку мне на плечо:
– Вы арестованы, доктор Вуф-Ху, он же Джефф Питерс, – говорит он, – за незаконные занятия медициной в соответствии с законами этой страны.
– Кто вы такой? – потрясенно спрашиваю я.
– Я вам сейчас сообщу, – говорит мэр, усаживаясь на кровати без посторонней помощи. – Мистер Бидл – сыщик, работающий на Медицинское общество штата. Он шел по вашему следу в пяти округах и явился ко мне третьего дня с просьбой о помощи. Мы вместе разработали план, как взять вас с поличным. Думаю, отныне ваша шарлатанская практика в наших краях закончилась раз и навсегда, мистер проходимец. Ха! Какую бы болезнь вы ни нашли у меня, это точно не размягчение мозга!
– Вот оно что! – говорю я. – Значит, сыщик?
– Так точно, – отвечает Бидл. – И моя обязанность – без промедления сдать вас шерифу округа.
– Ну, это еще как сказать! – тут я хватаю этого Бидла за горло и едва не выбрасываю из окна.
Он, однако, выхватывает револьвер, сует ствол мне под челюсть, и мне ничего не остается, как угомониться. Затем он защелкивает на моих запястьях наручники, обыскивает меня и извлекает из моего потайного кармана только что полученные деньги.
– Свидетельствую, – заявляет он, – что это те самые банкноты, номера которых мы с вами переписали, мистер Бэнкс. Я передам их шерифу, и он немедленно пришлет вам расписку. Они будут фигурировать в суде в качестве вещественного доказательства.
– Не возражаю, мистер Бидл, – ухмыляется мэр. – А вы, доктор Вуф-Ху, почему не воспользуетесь своим персональным магнетизмом, чтобы избавиться от наручников?
– Пошли, сержант, – говорю я, не теряя достоинства. – Делать, видно, нечего.
А уже в дверях поворачиваюсь к мистеру Бэнксу и, потрясая закованными руками перед собой, произношу:
– Что бы вы там ни говорили, сэр, а близко то время, когда вы сами убедитесь, что персональный магнетизм – огромная сила. Вы даже не представляете, насколько огромная. И она, так или иначе, победит.
Чистая, между прочим, правда, – магнетизм победил. Как только мы вышли за ворота, я говорю сыщику:
– А теперь, Энди, сними-ка с меня эти железяки, а то на нас прохожие таращатся…
Ну да, конечно, это был ни кто иной, как Энди Таккер. И весь этот спектакль был его изобретением.
Вот так мы и раздобыли деньжат на развитие совместного бизнеса.
Трест, который лопнул
– Н-да, всякий трест имеет слабое место… – однажды задумчиво заметил Джефф Питерс.
– Довольно бессмысленное утверждение, – отозвался я, – вроде того, как сказать: «Все полисмены носят фуражки».
– Ничего подобного, – возмутился Джефф. – Между полисменом и трестом нет никакого сходства. То, что я сказал, – это, в каком-то смысле, квинтэссенция[10]. А суть ее в том, что трест хоть и похож на яйцо, но в то же время и не похож. Когда хочешь разбить яйцо, бьешь снаружи. А трест… его можно разрушить только изнутри. Сидишь себе мирно, а тем временем птенчик раз – и вдребезги разнесет всю скорлупу! Да, сэр, каждый трест носит в себе семена собственной гибели – как тот член республиканской партии, который решится выставить свою кандидатуру в губернаторы Техаса…
Я в шутку поинтересовался, не доводилось ли Джеффу на протяжении его пестрой, полосатой и клетчатой карьеры возглавлять предприятие, которое могло бы назваться трестом. И, к моему удивлению, он не отрекся от столь тяжкого греха.
– Только однажды, – с горечью признал он. – И еще никогда печать штата Нью-Джерси не скрепляла документ, который позволял бы более законным способом грабить ближних. Все было нам на руку – время, вода, ветер, полиция, полная монополия на ценный продукт, крайне необходимый потребителям. При этом ни один борец с монополизмом не сумел бы найти в нашей затее ни малейшего изъяна. В сравнении с ним нефтяные делишки Рокфеллера могли показаться керосиновой лавчонкой в захолустье. И все-таки мы обанкротились.
– Какие-нибудь неожиданные препятствия? – поинтересовался я.
– Нет, сэр. Все случилось именно так, как я уже сказал… Мы сами себя погубили. Чистой воды самоликвидация. Яблочко оказалось с гнильцой.
Я ведь уже рассказывал, что мы несколько лет подряд работали вместе с Энди Таккером. А он был мастер на всякие ухищрения и каждый доллар в руке у кого бы то ни было воспринимал как личное оскорбление, если не мог им завладеть. Вдобавок Энди имел образование, и полезных сведений в голове у него скопилась прорва. Он мог часами говорить на любую тему хоть с университетской кафедры. И не существовало такой аферы и мошенничества, которые он бы не испробовал. Взять хотя бы его лекции о Палестине, которые Энди сопровождал демонстрацией снимков съезда закройщиков в Атлантик-Сити. Или поставки в Коннектикут целого океана поддельного спирта, добытого якобы из мускатных орехов…
Словом, однажды весной нам с Энди случилось побывать в Мексике, потому что один бизнесмен из Филадельфии заплатил нам две с половиной тысячи долларов за половину акций[11] серебряного рудника в Чиуауа… Да нет, рудник-то и в самом деле существовал, с этим все было в порядке. Вторая половина акций стоила как минимум двести или триста тысяч долларов, да только я и по сей день не знаю, кому на самом деле принадлежал тот рудник.
На обратном пути, уже в Соединенных Штатах, мы с Энди застряли в одном городишке в Техасе, на берегу Рио-Гранде. Назывался он Бердстаун, то есть Птичий Город, но обитали там далеко не птицы небесные. Две тысячи душ, в основной массе мужчины. Иные из них занимались скотом, иные – резались в карты, иные барышничали лошадьми, ну а прочие подрабатывали контрабандой. Мы поселились в гостинице, которая представляла собой нечто среднее между книжным шкафом и дырявой оранжереей, и едва устроились в номере, как хлынул дождь. Словно кто-то там, наверху, отвернул все краны.
Мы с Энди люди в общем-то непьющие, но в городе было три салуна, и все его жители день-деньской и добрую половину ночи перемещались в этом заколдованном треугольнике. Так что каждый здесь хорошо знал, как распорядиться своими деньгами.
На третий день дождь как будто начал стихать, и мы с Энди выбрались за город полюбоваться природой. Бердстаун лежит между Рио-Гранде и широкой ложбиной, по которой раньше протекала река. И теперь, когда река вздулась от дождей и, казалось, вот-вот выйдет из берегов, дамба, отделявшая ее от старого русла, держалась на честном слове.
Энди долго разглядывал эту дамбу. Все-таки у этого человека был живой ум. А потом, не сходя с того места, он выдал гениальную идею. Тут-то мы и основали трест, а потом вернулись в город и взялись за дело.
Для начала мы отправились в самый просторный салун, который назывался «Блю Снейк», и купили его с потрохами. Это обошлось нам в тысячу двести долларов. Потом заглянули в бар мексиканца Джо, потолковали о погоде и приобрели его за пятьсот. Третий нам уступили всего за четыреста.
Продрав глаза на следующее утро, Бердстаун обнаружил, что превратился в остров. Рио-Гранде сокрушила дамбу и ринулась в старое русло, город был со всех сторон окружен ревущими потоками воды. А дождь лил без передышки; на северо-западе висели тяжелые тучи, обещавшие, что в ближайшие две недели погода не переменится. Но не это было главной бедой.
Бердстаун выпорхнул из гнезда, почистил перышки и попрыгал за утренней выпивкой. Однако бар мексиканца оказался закрытым, второй – тоже. Тут из всех глоток вырвался неистовый крик изумления и жажды, и горожане толпой кинулись в «Блю Снейк».
И что же перед ними предстало?
За стойкой восседает Джефф Питерс, с виду – прожженный спрут-эксплуататор, справа от него кольт и слева кольт, и он в любую минуту готов дать сдачи либо монетой, либо пулей. В заведении орудуют три бармена, а на стене плакат в десять футов: «Каждая выпивка – доллар». Энди сидит на кассе, на нем шикарный костюм, в зубах сигара, вид у него настороженный. Тут же околачивается начальник городской полиции с двумя полисменами: трест посулил всем стражам порядка бесплатную выпивку.
Итак, сэр, не прошло и четверти часа, как Бердстаун сообразил – ловушка захлопнулась. Мы ожидали бунта, но как-то все обошлось. Горожане знали: деваться им некуда. До ближайшей железнодорожной станции тридцать миль, а вода в реке спадет не раньше чем недели через две, и до той поры о переправе можно только мечтать. Нет, они, конечно, выругались, но вполне учтиво, а потом на стойку посыпались серебряные доллары, да так бойко, будто кто играл на ксилофоне.
В Бердстауне было полторы тысячи взрослых мужчин, способных распоряжаться собой; чтобы не помереть от тоски и безделья, большинству из них требовалось от трех до двенадцати стаканов в день. А салун «Блю Снейк» оставался единственным местом, где они могли их получить. Красиво и просто, как всякая великая идея.
К десяти утра бурный поток долларов, устремившийся в кассу, немного обмелел. Но, выйдя на крыльцо, я обнаружил, что не меньше двух сотен наших клиентов выстроились в хвост перед отделением банка и ссудной кассой. Ясное дело – они хлопочут о новой порции долларов, которые высосет из них наш спрут, или трест, называйте как угодно.
В полдень все разошлись по домам обедать, как и подобает порядочным людям. Воспользовавшись затишьем, мы отпустили барменов перекусить, а сами уселись считать выручку. За это утро мы заработали тысячу триста долларов. И если Бердстаун останется в осаде еще две недели, у нас будет достаточно средств, чтобы подарить ферму каждому добродетельному бедняку в Техасе, если участок земли он оплатит сам.
Энди прямо раздулся от гордости – ведь план-то принадлежал ему. Он слез с несгораемой кассы, раскурил самую длинную сигару, какая только нашлась в салуне, и сказал:
– Джефф, я думаю, что во всем мире не найти кровопийц-эксплуататоров, столь изобретательных по части угнетения трудящихся контрабандистов, как торговый дом «Питерс, Таккер и Сатана». Мы просто нокаутировали нашего потребителя. Разве не так?
– Так, – говорю я. – Вот и выходит, что придется нам заняться гольфом или заказать себе шотландские юбочки и отправиться на лисью охоту с гончими. Похоже, фокус с выпивкой удался. И это мне по душе.
Тут Энди наливает себе стаканчик ячменного и отправляет его по назначению. Это была его первая выпивка за все время, что мы с ним работали в паре.
– Вроде как возлияние богам, – говорит он.
Отдав должное идолам коммерции, он опрокинул еще стаканчик – за успех нашего предприятия. А дальше пошло-поехало. Он пил за всю мировую промышленность, начиная от Тихоокеанской железной дороги и кончая всякой мелочью вроде маргаринового концерна, синдиката полиграфистов и федерации шотландских горняков.
– Притормози, Энди, – говорю я ему, – это, конечно, похвально, что ты пьешь за здоровье родственных нам монополий, но смотри, парень, не увлекайся тостами. Ты ведь в курсе, что самые знаменитые и самые ненавидимые миром олигархи и миллиардеры не вкушают ничего крепче жидкого чая с сухариками.
Энди удалился за перегородку, вынырнул оттуда в парадном костюме и снова взялся за виски. Во взгляде у него появилось что-то возвышенное – я бы сказал, горделивый вызов. Ох, и не понравился мне этот взгляд! Я всматривался в Энди с тревогой: как знать, какую штуку выкинет с ним виски? На свете есть две вещи, которые неизвестно чем кончаются: когда мужчина выпьет в первый раз и когда женщина выпьет в последний.
Так он продолжал в течение часа. Нет, снаружи-то он выглядел вполне благопристойно и даже умудрялся сохранять равновесие, но внутри был битком набит сплошными сюрпризами.
– Джефф, – наконец заявляет он мне, – ты знаешь, кто я такой? Я в-в-вулканический кратер, только ж-живой.
– Это, – говорю мрачно, – даже не требует доказательств.
– Да-да, и притом огнедышащий. Из меня так и пышет жар земных недр, а внутри клокочут слова и рвутся наружу. Мириады частей речи буквально рвут меня на части, и я не уймусь, пока не произнесу какую-нибудь историческую речь. Когда я выпью, – добавляет Энди, – меня всегда влечет благородное искусство риторики.
– Хуже не придумаешь, – говорю я, – последнее дело.
– С раннего детства, – гнет свое Энди, – алкоголь пробуждал во мне страсть к декламации. Да что там детство: во время второй избирательной кампании Билли Брайана мне наливали три порции джина и я, бывало, взбирался на трибуну и толковал о денежной реформе на два часа дольше самого кандидата.
– Если тебе приспичило, – говорю я, – ступай к реке и говори, сколько угодно. Помнится, в Древней Греции уже был один такой старый болтун[12], не помню, как его звали, который таскался на берег моря и там надрывал глотку.
– Не годится, – говорит Энди, – мне требуется публика. Я должен собрать аудиторию и унять перед ней свой ораторский позыв, иначе я буду чувствовать себя собранием сочинений в переплете с золотым обрезом, которое годами торчит на пыльной полке.
– А на какую тему ты бы хотел поупражняться? – спрашиваю я. – Есть у тебя хотя бы тезисы?
– Тема? – говорит Энди. – Это совершенно безразлично. Я разбираюсь практически во всем. Могу говорить о русской иммиграции, о поэзии Китса, о новых тарифах, о кабильской литературе или о водосточных трубах, и будь уверен: мои слушатели будут то обливаться слезами, то хохотать.
– Ну что ж, Энди, – говорю я ему, – если уж совсем невтерпеж, ступай и выплесни избыток своей образованности на голову какому-нибудь несчастному обывателю. Мы тут и сами управимся. Горожане скоро покончат с обедом, а солонина с бобами, как известно, вызывает жажду. К полуночи у нас будет еще тысячи полторы.
На этом Энди выходит из салуна «Блю Снейк». Краем глаза я замечаю, что он останавливает на улице каких-то прохожих и вступает с ними в беседу. Не прошло и десяти минут, как вокруг него уже собралась кучка людей, а вскоре я вижу, что он стоит на углу, воодушевленно говорит и размахивает руками, а перед ним уже внушительная толпа.
Потом он повернулся и зашагал, продолжая говорить на ходу. И он повел эту толпу по главной улице, и по дороге к ним приставали все новые и новые прохожие. Больше всего это было похоже на тот старый фокус, когда один парень все упражнялся в игре на дудке и доупражнялся до того, что увел за собой всех детей[13], какие нашлись в том городе.
Прошел час, потом два и три, а ни одна пташка так и не залетела в наш салун. На улицах пусто, бродят мокрые куры, да изредка женщина пробежит в лавчонку. А между тем дождик начинает утихать.
Наконец какой-то мужчина останавливается у нашего крыльца, чтобы соскрести грязь с сапог.
– Что происходит, мистер? – говорю я ему. – Не далее как сегодня утром здесь царило безумное веселье, а теперь Бердстаун смахивает на руины Вавилона, где по камням ползает одинокая ящерица.
– Весь город, – отвечает он, – собрался у Сперри на складе шерсти и слушает речь вашего дружка. Умеет парень потолковать насчет всяких там высоких материй.
– Вон оно как, – говорю. – Ну, надеюсь, что он все-таки рано или поздно сделает передышку, потому как от этого страдает бизнес.
А между тем до самого вечера к нам не заглянула ни одна собака. В половине седьмого два мексиканца привезли Энди: он возлежал поперек спины их осла и был пьян, как затычка от бочки с виски. Мы едва уложили его в постель, а он все еще бормотал, отбивался и жестикулировал.
Я запер кассу и отправился выяснять, как было дело. Вскоре навстречу мне попался человек, который и выложил мне всю историю. Оказывается, Энди проговорил два с лишком часа без остановки. Он произнес лучшую речь, какую, если верить этому человеку, когда-либо слышали не только в Техасе, но и во всей вселенной.
– И о чем же он говорил? – уже догадываясь и холодея от ужаса, спросил я.
– О вреде пьянства, само собой, – ответил тот. – И когда он закончил, все жители Бердстауна подписали бумагу, что в течение года не возьмут в рот ни капли спиртного…
Деревенские забавы
Всякий раз, когда просишь Джеффа Питерса рассказать о каком-нибудь из его приключений, он начинает уверять, что его жизнь монотонна и бедна событиями. Но, если незаметно подбросить ему крючок, он обязательно попадается. Поэтому я использую несколько разных наживок, чтобы мой приятель надежно клюнул.
– Сдается мне, – заметил я однажды, – что среди фермеров Запада, при всей их зажиточности, снова наметилось движение в пользу национализации железных дорог.
– Видно, такой сезон, – сказал Джефф, – всюду жизнь. Фермеры куда-то движутся, сельдь и треска сбиваются в несметные косяки, из сосен сочится смола, а на реке Конемо вскрылся лед. Однажды я вообразил, что обнаружил фермера, который хоть немного не похож на своих собратьев. Но Энди Таккер в два счета доказал мне, что я ошибаюсь. «Фермером родился – фермером-простофилей и помрешь, – сказал Энди. – Фермер – это человек, выбившийся в люди вопреки всяким политическим баламутам, котировкам[14] и баллотировкам[15]. И я понятия не имею, кого б мы стали надувать, если бы не фермеры».
Однажды просыпаемся мы с Энди поутру, а у нас в кармане всего шестьдесят восемь центов. Дело было в гостинице, в Южной Индиане. Уж как там мы накануне спрыгнули с поезда, я и описывать не берусь. Страшное дело – он несся так быстро, что из окна вагона нам чудилось, будто мы видим салун, а когда пришли в себя, то обнаружилось, что это разные вещи в двух кварталах одна от другой: аптека и цистерна с водой.
Зачем нам понадобилось прыгать на полном ходу? Ну, тут были замешаны часики из поддельного золота и партия брильянтов из Аляски, от которых нам не удалось отделаться по ту сторону границы штата.
Значит, проснулся я и слышу – где-то кричат петухи, а в воздухе пахнет чем-то вроде смеси азотной и соляной кислот. Тут что-то увесистое шмякнулось об пол в нижнем этаже, и послышалась ругань.
– Эй, Энди, – говорю я, – ну-ка веселее! Мы же в деревне. Там, внизу, кто-то швырнул для пробы слитком чистого фальшивого золота. Идем и получим с фермера то, что нам причитается по всем правилам. Кинем его слегка – и привет.
Фермеры всегда служили мне чем-то вроде резервного фонда. Чуть дела пошатнутся, я отправляюсь на ближайший перекресток, цепляю фермера на ходу за подтяжку, выкладываю ему свои предложения, бегло осматриваю его имущество, возвращаю ключ, брусок для точки косы и бумаги, имеющие цену для него одного, и удаляюсь восвояси. Конечно, фермеры как дичь для нас были мелковаты, обычно мы занимались делами посерьезнее, но порой и они пригождались, как акулам с Уолл-стрита бывает на пользу министр финансов.
Спустившись вниз, мы обнаружили, что находимся в самой натуральной земледельческой округе. В двух милях на горке торчал в тени деревьев большой белый дом, а вокруг него толпились флигели, амбары, коровники, выгоны и прочее.
– Чья это усадьба? – спросили мы у хозяина гостиницы.
– Это, – отвечает он, – резиденция, а также лесные, земельные, садовые и луговые угодья мистера Эзры Планкетта, одного из самых уважаемых граждан.
После завтрака мы с Энди, оставшись с восемью центами наличных, принялись составлять гороскоп этого латифундиста.
– Я пойду к нему один, – наконец объявил я. – Мы вдвоем против одного фермера – это неспортивно. Все равно что стрелять по кроликам картечью.
– Ладно, – согласился Энди. – Я тоже люблю честную игру – даже когда играю с огородниками. Так на какую приманку ты собираешься изловить этого Планкетта?
– Никакой разницы, – говорю я. – Сойдет любая. Я, пожалуй, прихвачу с собой квитанции, подтверждающие уплату подоходного налога, рецепт для приготовления клеверного меда из творога и яблочной кожуры и бланки заказов на носилки Мак-Горни, которые потом оказываются косилкой Мак-Кормика. Да еще карманный слиток золота и жемчужное ожерелье – то самое, что мы с тобой нашли в вагоне, и…
– Этого хватит, – говорит Энди. – Но будь внимателен, Джефф, чтобы этот кукурузник не всучил тебе грязные и мятые купюры. Просто позор для департамента земледелия и министерства финансов – какими только паскудными бумажками расплачиваются некоторые фермеры.
Иду я на городскую конюшню и арендую двуколку, благо платы вперед с меня не берут ввиду приличной наружности. Подкатываю к ферме, привязываю лошадь. Вижу – на ступенях крыльца сидит какой-то фатоватый субъект в белоснежном костюме, розовом галстуке, с перстнем на пальце и в спортивной кепчонке. «Должно быть, приезжий», – думаю про себя. Спрашиваю:
– Как бы мне повидать мистера Эзру Планкетта?
– Вот он перед вами, – отвечает этот тип. – А вам чего?
Я молчу. Стою столбом и повторяю про себя куплеты из водевиля о деревне, там еще говорится о «человеке с лопатой». Вот это, значит, он и есть. А когда я присмотрелся к этому фермеру в розовом галстуке, то окончательно понял, что выбить из него монету с помощью тех пустячков, что я прихватил с собой, все равно что пытаться разнести вдребезги сейф Первого Национального банка при помощи рождественской хлопушки.
Он смерил меня взглядом и говорит:
– Ну, рассказывайте, с чем прибыли. Вижу: левый карман вашего пиджака чересчур оттопырен. Там ведь золотой слиток, верно? Давайте его сюда, мне как раз нужны кирпичи. Предупреждаю – байки о затерянных серебряных рудниках меня не интересуют.
Чувствуя себя безмозглым дураком, я все-таки вытащил из кармана свой слиток, тщательно завернутый в платок. Он взвесил его на ладони, пожевал губу и говорит:
– Доллар восемьдесят центов. Устроит?
– Свинец, из которого сделано это золото, и тот стоит дороже, – стараясь не терять достоинства, я вернул слиток на место.
– Как будет угодно. Я хотел купить его для коллекции, которую начал составлять, – говорит фермер. – На прошлой неделе я уже приобрел отличный экземпляр. Просили за него пять тысяч долларов, а уступили за два доллара и десять центов.
Тут в доме зазвонил телефон.
– Да вы проходите, – говорит фермер. – Посмотрите, как я тут устроился. Иногда мне бывает скучно в одиночестве. Это, надо полагать, из Нью-Йорка беспокоят.
Ну, мы вошли. Мебель в комнате, как у биржевика с Уолл-стрит, дубовые конторки, два телефона, кресла и кушетки, обитые испанским сафьяном, картины маслом в позолоченных рамах, в углу – телеграф отстукивает котировки.
– Хэлло-оу! – кричит фермер. – Риджент-тиэтр? Это Планкетт из имения «Сентрал Хонисакл». Забронируйте за мной четыре кресла в первом ряду – пятница, вечерний спектакль. Да-да, те, что обычно. Всего наилучшего!
– Каждые две недели мотаюсь в Нью-Йорк проветриться, – поясняет фермер, вешая трубку. – Сажусь в Индианаполисе в вечерний экспресс, провожу десять часов на Бродвее и возвращаюсь домой через сорок восемь часов.
И то сказать: первобытный фермер пещерного периода малость приоделся и пообтесался за последние годы. Вы не согласны?
Только я открыл было рот, чтобы прокомментировать некоторые отступления от старых добрых аграрных традиций, как снова затрезвонил телефон.
– Хэлло-оу? – говорит фермер. – А-а, это вы, Перкинс… Я уже говорил вам, что восемьсот долларов за этого жеребца – слишком много. Конь при вас? Хорошо, покажите мне его… Как? Очень просто: отойдите от аппарата и пустите его рысью по кругу. Быстрее, еще быстрее… Да, я слышу… Еще наддайте… Хватит. Давайте его к телефону. Ближе… И помолчите минуту. Нет, я не беру его. Что?.. Нет. И даром не возьму. Он хромает, и вдобавок с запалом. Прощайте, Перкинс.
– Ну-с, достопочтенный, – обращается он ко мне, – теперь убедились, что вы просто ископаемое? Современного агрария с налету не возьмешь. Вот, полюбуйтесь, как мы, деревенщина, стараемся не отстать от жизни.
И тащит меня к столу. На столе у него машинка, а у машинки две такие штуковины, которые вставляются в уши. Вставляю, слушаю. Женский голос, довольно приятный, зачитывает сводки убийств, несчастных случаев и прочих тонкостей политической жизни.
– То, что вы слышите, – поясняет фермер, – это выборка сегодняшних новостей из газет Нью-Йорка, Чикаго, Сент-Луиса и Сан-Франциско. Их сообщают по телеграфу в местное Бюро последних известий и подают подписчикам с пылу с жару. Здесь, на этом столе, самые свежие и авторитетные газеты и журналы Америки. А также выдержки из будущих журнальных статей.
Беру один листок и читаю: «Корректуры будущих статей. В июле 1909 года журнал «Сенчури» предполагает опубликовать…» – ну и так далее.
Тем временем фермер звонит, должно быть, управляющему, приказывает продать джерсейских баранов – пятнадцать голов – по шестьсот долларов и доставить на станцию еще двести бидонов молока для молочного экспресса. Потом предлагает мне сигару, достает бутылку шартреза и косится на ленту своего телеграфа.
– Газовые акции поднялись на два пункта, – сообщает он. – Неплохо.
– А может быть, вас медь интересует? – спрашиваю я.
– Осади! – рявкает он. – А не то кликну собак. Я же сразу сказал: не тратьте времени зря на эти штучки. Вам, молодчик, меня не надуть.
Проходит несколько минут, и он вдруг говорит:
– А не кажется ли вам, достопочтенный, что вам пора покинуть мой дом? Я был рад с вами побеседовать, но у меня куча срочных дел: я должен закончить для одного издания статью «Призрак коммунизма», а ближе к вечеру отправиться на заседание президиума Ассоциации по улучшению качества беговых дорожек. Да и вам не стоит тратить время – ведь вы уже убедились, что ни в какие ваши снадобья я не верю.
Ну что мне оставалось делать, сэр? Вскочил я в свою тележку, и лошадь сама привезла меня в гостиницу. Я кинулся к Энди, который валялся у себя в номере. Рассказываю ему слово в слово о моем свидании с продвинутым фермером и никак не могу прийти в себя. В голове – ни одной дельной мысли.
– Не знаю, что и придумать, – говорю я и, чтобы мой позор не так колол глаза, начинаю напевать какую-то дурацкую песенку.






