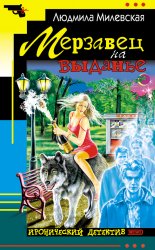Петербургский панегирик ХVIII века Николози Риккардо
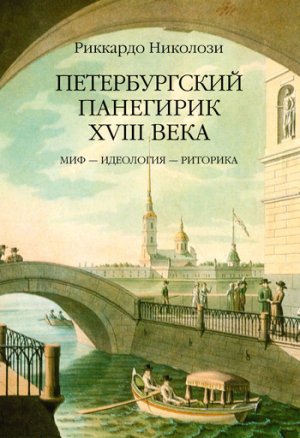
Введение
La memoria e ridondante: ripete i
segni perche la citta cominci a esistere.
Italo Calvino, «Le citta invisibilb[1]
По пути в Рим апостол Андрей остановился на месте, где впоследствии суждено было возникнуть Киеву. Здесь он водрузил крест и предрек основание города. Затем, по свидетельству «Повести временных лет»[2], он продолжил свой путь, чтобы прибыть на место будущего Новгорода, узнать славян и их обычаи. До начала XVIII в. оставался, однако, «скрытым» тот факт, что во время своих странствий по будущей Руси апостол Андрей сделал еще одну остановку, а именно в «Санктпетербургской земле». Здесь он опустил свой жезл, благословил эту землю и предсказал ее будущее величие. Об этом сообщает анонимная рукопись Петровской эпохи «О зачатии и здании царствующаго града Санктпетербурга»[3], в которой, среди прочего, рассказывается известный миф об основании города: будто бы в поисках места, пригодного для постройки нового города, Петр Великий выбрал остров Енисаари, так как в тот момент, когда он его осматривал, в небе показался орел. Два дня спустя, 16 мая 1703 г., по его повелению на острове был захоронен ковчег с мощами святого Андрея; на ковчеге была надпись: «По воплощении Иисус Христове 1703 маия 16 основан царствующий град Санктпетербург великим государем царем и великим князем Петром Алексиевичем, самодержцем Всероссийским» [Беспятых 1991: 258]. Так было положено основание новой царской резиденции и одновременно положено начало интертексту Петербурга.
Не столько несоответствие между мифическим повествованием и историческими фактами[4], сколько насыщенная интертекстуальность нарратива и ее воздействие на формирование культурной семантики города характеризуют легенду об основании города петровского времени. Если отсылка к древнерусскому преданию о странствованиях св. Андрея по Руси ставит Петербург у истоков русского православия[5], то знаменательное появление орла отсылает к легенде об основании Константинополя[6] (то есть к легенде об основании децентрированной столицы, в традиции которой воспринимается Петербург), а присвоение ему римской коннотации подкрепляется возведением храма в честь святых Петра и Павла. То обстоятельство, что мощи св. Андрея легли в основание города, ознаменовало также и тесное сплетение его (интер)текстуальной ткани.
Хотя отсылка к существующим мифам и традициям призвана в первую очередь легитимировать основанный Петром город, то есть ввести его в контекст русской культуры[7], она вместе с тем заметно определяет создание культурной семантики Петербурга, – поскольку город, не имеющий истории, создавал свою идентичность прежде всего через текстуальную причастность к чужим традициям. Петербург, согласно одному из главных тезисов настоящего исследования, с самого начала представлял собой нечто «сотканное», дискурсивное единство культурных ссылок, породивших его семантику в форме мифов и легенд, идеологем и утопий, цитат и символических действий.[8]
В этой связи литературе – и в первую очередь панегирической, о которой пойдет речь, – принадлежала ключевая роль: изначально именно она стала источником концепций, определявших семантику города. Она была не столько источником интерпретации города – как это случилось, к примеру, по мнению К. Штирле (1993), в истории Парижа[9], – сколько участвовала в создании текста города, она, так сказать, «строила» город. Подобно петербургской архитектуре, обязанной своей уникальной гибридностью цитатам и смешению всевозможных стилей, петербургский панегирик вписал «свободный от риторики» город в ткань гетерогенных текстов, сформировавшуюся под влиянием петровских идеологем и мифем, образцов повествования из древнерусской традиции и риторической топики прославления города. Настоящая работа ставит своей целью исследовать эту ткань и тем самым осветить ее до сих пор не раскрытую многослойность.
Понятие «петербургский панегирик» имеет в виду литературную дескрипцию города на Неве в торжественных одах и прославляющих речах XVIII – начала XIX в. Этот неологизм, однако, отнюдь не выполняет функции нового обозначения уже знакомой материи, поскольку речь идет о реконструкции определенной литературной традиции изображения Петербурга, до последнего времени обойденной вниманием исследователей. В исследованиях, посвященных «петербургской» литературе – от Н. П. Анциферова до В. Н. Топорова[10] – изображение этой традиции исчерпывалось, как правило, указанием на фрагментарность и «незрелость» образа города, не выдерживающего сравнения с более поздними городскими текстами (Stadttexte) Пушкина, Гоголя и Достоевского[11]. С этой точки зрения петербургская литература XVIII в. казалась неадекватной параллелью классической петербургской литературе XIX и XX вв., своего рода неструктурированным сырым материалом, из которого лишь в эпоху романтизма был «вылеплен» подлинный петербургский миф[12].
В предлагаемой работе петербургский панегирик рассматривается под иным углом зрения, позволяющим понять когерентную, закрепленную в определенном литературном и культурном контексте традицию городского текста (Stadttext). Речь пойдет, в частности, об анализе трех аспектов этой традиции: мифопоэтического, культурного (в смысле культурной идентичности) и риторико-текстуального. Использование различных методических и теоретических подходов позволяет представить материал во всей его многогранности.
Теоретической основой первой главы («Хаос versus космос: мифопоэтика Петербурга») является исследование В. Н. Топорова о мифопоэтическом субстрате петербургской литературы (1995). На основе тезиса о параллельном существовании двух противоположных мифов – о возникновении и о конце, показывается, как панегирик, репрезентируя основание города в качестве демиургического творения Петра, таит в себе при этом до сих пор не распознанные намеки на миф конца, то есть как постепенно все более фокусируется дихотомическая структура городского мифа. Наряду с этими мифопоэтическими мотивами анализируются античные, библейские и древнерусские пласты панегирика на примере некоторых изобразительных приемов (например, синтаксической формулы «где прежде… там ныне…»).
Во второй главе («Эксцентрический центр: самосознание культуры») анализируется культурно-символический пласт петербургского панегирика, в частности его роль в конструировании русской культурной идентичности в XVIII в., на которую он воздействует, создавая образы «своего» и «чужого». При этом пространственно-семиотические концепции центра и периферии Ю. М. Лотмана, поясняемые им, в частности, на примере Петербурга, дополняются типологией культурной идентичности Б. Гизена [Giesen 1999]. Центральное место в главе отводится проблематике построения культурных границ, касающейся внешнего и внутреннего пространства русской культуры, ибо панегирик концептуализирует Петербург, отмежевывая его как от Запада, так и от старой русской (московской) культуры. В этом контексте трактуется и роль Петербурга как утопического конструкта и идеального города.
Риторико-текстуальная фактура петербургского панегирика является центральной темой третьей главы («Petropolis sub specie topicaе»): она анализируется с точки зрения топики. Под топикой здесь понимается кристаллизация не только устойчивых, повторяющихся литературно-письменных форм, но, прежде всего, определенных категорий концептуализации и осмысления города, рассматриваемых в связи с их заимствованием из чужой (неолатинской) риторической традиции. Здесь учитываются исследования последних лет в области топики, в частности рассуждения Л. Борншойера об энергии «общественного воображения» (gesellschaftliche Einbildungskraft) [Bornscheuer 1976] – вместе с работой о восточнославянской риторике Р. Лахманн [Lachmann 1994] они послужили нам теоретико-методическим основанием наших наблюдений. В главе анализируется межкультурное, западноевропейское измерение панегирического городского текста, возникновение которого понятно лишь в контексте эпидейктической laus urbium. Петербургская литература рассматривалась до сих пор в ее чисто русском измерении, как явление, пусть и в высшей степени интертекстуальное, но относящееся лишь к русской литературе. Там же описывается диахроническое развитие петербургской топики прославления и показаны отчасти значительные дифференции между различными фазами петербургского панегирика.
Наконец, в «Заключении» намечается эволюционная линия, связывающая петербургский панегирик с канонической петербургской литературой XIX в. В эпоху романтизма на смену эпидейктической городской литературе приходит петербургская поэзия, использующая элементы этой традиции и потому обозначаемая как «постпанегирическая». Панегирические топосы, мифологемы, идеологемы деконтекстуализируются и встраиваются в другой философский, историософский и литературный контекст, чтобы ответить на новые, актуальные вопросы о культурном значении Петербурга. Ярчайшим примером такой интертекстуальной отсылки к петербургскому панегирику является поэма Пушкина «Медный всадник».
Несмотря на то что настоящая работа посвящена теме, только спорадически попадавшей в поле зрения славистов, она созвучна традиционным исследованиям петербургской литературы, поэтому во «Введении» речь пойдет сначала об указанной научной традиции на примере двух крупных ее представителей – Анциферова и Топорова, которые, тематизировав и сохранив этот особый городской жанр, оказали заметное влияние на исследование городского текста. В заключение будет определено место настоящей работы в указанном научном контексте. Вслед за систематическим и историческим введениями в панегирик в европейском (античность и Новое время) и русском контекстах будет дан обзор истории петербургского панегирика как жанра.
1. Концепт «петербургская литература» в работах Н. П. Анциферова и В. Н. Топорова
«Душа Петербурга»[13] Н. П. Анциферова, сыгравшая важную роль в исследовании петербургской литературы, вышла в свет в 1922 г. в контексте петербургского «градоведения»[14] – направления, ставившего своей целью спасение культурного прошлого города в тяжелые послереволюционные годы, когда Петербург из Петрополя грозил превратиться в «Некрополь»[15]. «Душеведение» Анциферова дополняло исследования в области истории искусства, социологии и истории того времени попыткой осмыслить духовное измерение города (его «душу»), изучая литературу о нем. Анциферов уподоблял город живому организму[16], душа которого может раскрыться созерцателю, если освободить ее из материальной оболочки [Анциферов 1991: 30]. Этот процесс, который он называл «спиритуализацией» города [Там же], обнаруживает явные следы символистской поэтики (a realibus ad realiora). Влиянием символизма отмечен – в смысле так называемой лирической прозы – и язык описаний Анциферова, перенасыщенных цитатами, парафразами, реминисценциями из рассматриваемых произведений и использующих их часто в качестве рефрена. Цитаты, по словам Анциферова, заменили в его книге картины, то есть использовались так же ассоциативно[17].
Показательно, что за основу изучения «души города» Анциферов берет исключительно петербургскую литературу, которая воспринимается им как квинтэссенция и хранилище духовной сущности города. Анциферов сознательно включается в дискурс городской литературы, подкрепляя его обильными цитатами и тем самым продолжая его. В тот момент, когда петербургская литература в лице авангарда переживает свой последний расцвет, Анциферов увековечивает ее в своей книге и продлевает ее жизнь. Научный дискурс о петербургском мифе построен у него как часть этого мифа с использованием его приемов; эта же тенденция наблюдается и у В. Н. Топорова[18].
Основополагающее исследование В. Н. Топорова «Петербург и петербургский текст русской литературы» (1995)[19] представляет собой «теорию городского текста», ставящую своей задачей систематизировать петербургскую литературу от Пушкина до авторов начала XX в. и благодаря этому создать возможности для ее интерпретации[20]. Развиваемая в нем концепция петербургского текста возникла в контексте обширных петербургских и – шире – градоведческих исследований, проводившихся тартуско-московской семиотической школой. Топоров дополнил эти исследования, сфокусировав внимание на активном участии литературных текстов в формировании культурной семантики города, то есть на взаимовлиянии литературы и социально-культурных явлений.
В. Н. Топоров рассматривает петербургский текст, однако, не как текст в культурологическом или культурно-семиотическом смысле, а прежде всего как литературный «сверхтекст» [Топоров 1984: 275], писавшийся многими русскими писателями, начиная с Пушкина. Эта особая форма литературной традиции означает участие в написании единого текста, обладающего устойчивой семантикой, топикой и «синтаксисом», несмотря на жанровые, стилевые и темпоральные различия[21]. «Монолитность» петербургского текста достигается не только за счет заметных интертекстуальных совпадений на уровне топики[22], но прежде всего благодаря его семантической связности. Семантическим ядром петербургского текста является, согласно Топорову, максимальная смысловая установка, цель которой – «путь к нравственному спасению, к духовному возрождению в условиях, когда жизнь гибнет в царстве смерти, а ложь и зло торжествуют над истиной и добром» [Топоров 1984: 279].
По мнению Топорова, петербургский текст возникает в пространстве между городом и литературой не как отражение реальности, а как высшая, спиритуальная реальность, не теряющая контакта с внеположенной тексту данностью (социально-культурным явлением Петербурга), – реальность, пребывающая с ней в «симбиозной» связи. Очевидная сотериология семантического ядра петербургского текста основана на предположении, что только петербургский текст (читай: русская литература) способен синтезировать и перевести в категорию спиритуального уже и без того символически уплотненную реальность Петербурга, ее культурную раздвоенность между проклятием и прославлением, злом и добром, жизнью и смертью, и значит – сделать возможным эсхатологический переход «a realibus ad realiora».
Петербург, посредством собственного текста, считает Топоров, решает как общие антропологические вопросы о жизни и смерти, страдании и избавлении, так и специфические историософские вопросы о русской культурной идентичности. В уплотняющем, унифицирующем пространстве петербургского текста Петербург обнаруживает свою «оксюморонную» природу: основополагающая, непреодолимая дихотомия Петербурга, его колебание между апокалипсисом, пропастью, смертью, с одной стороны, и сотериологией, жизнью, формированием культурной идентичности – с другой стороны, проявляется в петербургском тексте через изначально в нем заложенное сосуществование двух мифов: мифа о возникновении и мифа о гибели[23]. Космогония и апокалипсис – таковы два полюса вечного маятника, движение которого определяет символическую интерпретацию города: в ретроспективной проекции основание города толкуется как демиургический акт покорения природы, в то время как предсказание гибели города как разрушения узурпирующей культуры возвращающимся природным хаосом образует тому противоположный полюс.
Эти два основных мифа, по мнению В. Н. Топорова, определяют глубинную мифопоэтическую структуру, коренящуюся в сложном и противоречивом единстве природы и культуры. Подобно Ю. М. Лотману [Лотман 1984], В. Н. Топоров исходит из концептуализации Петербурга как «эксцентрического» города[24]: Петербург – это город «на грани» не только в физическом, но, прежде всего, в метафизическом смысле. Географическая и политическая граница России, близ которой находится город Петра, становится в мифо-символическом измерении петербургского текста метафизической границей между космосом и хаосом, жизнью и смертью:
Особая роль в петербургском тексте принадлежит крайнему положению Петербурга, месту на краю света, на распутье. <…> Для петербургского текста как раз и характерна подобная же игра на переходе от пространственной крайности к жизни на краю, на пороге смерти, в безвыходных условиях, когда «дальше идти уже некуда» [Топоров 1995: 282].
«Антитетический синтез» природы и культуры образует «сакральную» глубинную структуру петербургского текста: бинарность, как тотализирующая фигура мысли, играет в ней ключевую роль. В оппозиции «природа – культура», согласно Топорову, оба полюса равноценны[25] и имеют чисто семиотическую природу, то есть не определены ни онтологически, ни аксиологически. С одной стороны, природа (болото, вода, туман, темнота, горизонтальность и аморфность) противопоставлена культуре (башни, купола, архитектурность линейной перспективы, чертежная вертикальность и воплощенность в форме), с другой – каждый из этих полюсов содержит антитезу внутри себя. Грязной, стоячей воде, холоду, затхлости (читай: неясности, безысходности, безнадежности) в самой природе противопоставлены (предзакатное) солнце, свежесть, сверкающая водная гладь (читай: ясность, счастье, надежда). Так же обстоит дело и в культуре: дома нерегулярной формы, грязные задние лестницы, вонь, шум противопоставлены просторным площадям, прямым проспектам, регулярности форм, роскоши.
Природа и культура как воплощение хаоса и порядка, «призрачности» и «прозрачности», неотделимы друг от друга в петербургском тексте: именно состояние максимальной энтропии, дисперсии и смерти является предпосылкой перехода к несущему надежду, спасительному свету. Петербург – это непрочный островок порядка в море хаоса, культурный космос, не одолевший природного хаоса, да и не могущий его одолеть.
Концепция петербургского текста, как теоретический подход к изучению петербургской литературы, имела в последние годы большой резонанс[26]. При этом возникает вопрос, действительно ли эта концепция в состоянии интерпретировать всю петербургскую литературу, иначе говоря, применима ли сюжетообразующая семантика петербургского текста ко всем писателям, упоминаемым Топоровым. Гоголь, например, за призрачностью петербургского текста не увидел высшей, сулящей надежду реальности: он должен был в буквальном смысле покинуть петербургский текст, чтобы найти свой «небесный Иерусалим» в Риме и (своем собственном) Римском тексте[27].
Топоров явно видит в литературном Петербурге Достоевского кристаллизацию петербургского текста в чистом виде, своего рода вневременный прообраз, являющийся мерой как предшествующей, так и последующей традиции. И это, по утверждению Топорова [Топоров 1995: 313], касается не только петербургской лексики, но и основной семантики, которая будто бы «подгонялась» под романы типа «Преступления и наказания»[28]. Поэтому понятие «сверх-текста», охватывающего разные жанры, разных авторов и разные эпохи, представляется по крайней мере проблематичным, если не мистифицирующим.
Концептуализируя разбухшую традицию при помощи идеи петербургского текста, Топоров не только продолжает, но и актуализирует ее. Так, например, сотериологические аспекты петербургского текста, по мнению Топорова, по-прежнему весьма актуальны. «Правильно читать» петербургский текст – значит понимать не только глубинные процессы русской истории, но, прежде всего, его «спасительную функцию» для русской культуры. Говоря иначе: петербургский текст и сегодня способен указать путь от энтропии (читай: кризиса) к избавлению, поддержать «анти-энтропи-ческие» устремления сегодняшней России [Топоров 1995; 319]. Довольно очевидным кажется и то место, которое приписывает в этом мессианском контексте Топоров своей концептуализации петербургской литературы: в предстоящем осмыслении и декодировании русской культуры этой концептуализации принадлежит решающая роль[29].
Стремление Топорова поднять вопросы о русской культурной идентичности и ответить на них посредством изучения городского текста идет вразрез с исключением из петербургского «сверхтекста» нелитературных текстов. Художественный текст замещает у Топорова все прочие компоненты городского дискурса. С этой точки зрения Топоров является продолжателем методологического направления, берущего свое начало в «душеведении» Анциферова и рассматривающего художественную литературу как хранительницу духовного измерения города.
Настоящая работа воздерживается от такого «мистифицирующего» восприятия петербургской литературы, хотя в ней и исследуются исключительно художественные тексты, а принадлежность к единому сверхжанру – панегирику – служит дополнительным ограничительным критерием отбора текстов. Единство жанра, наряду с тематической направленностью, – вторая определяющая черта рассматриваемых здесь текстов – обосновано тем, что петербургский панегирик представлял собой главную традицию городского текста в России XVIII в., поскольку он оказывал заметное влияние на формирование культурной семантики города. Впрочем, это не заслоняет многоообразия жанров в петербургском литературном дискурсе XVIII в.: петербургский дискурс включает в себя в пределах рассматриваемого периода и другие типы текста, как, например, народные предания, путевые записки, мемуары, письма и т. д., которые в данной работе будут учитываться лишь в отдельных случаях. Особое внимание, уделяемое в настоящей работе панегирическим текстам, не преследует цель преувеличить их роль в конструировании городской семантики: наша задача скромнее – проанализировать материал, до сих пор выпадавший из поля зрения исследователей. Эпидейктическая литература не спиритуализирует город, а участвует в его «строительстве», поэтому некоторые ее компоненты будут рассмотрены здесь с археологической, а не «душеведческой» точки зрения.
2. Жанровое пространство панегирика
Панегирик, согласно схеме трех аристотелевских родов (genera), совпадает с эпидейктическим жанром ( – genus demonstrativum). В отличие от судебного и совещательного видов красноречия, предметом эпидейктического жанра является не спорное дело, или «деяние» (res dubia), а заведомо конкретные обстоятельства (res certa), которые должны подтверждаться оценкой (похвалой или порицанием). Его так называемые речевые действия, часто неверно определяемые как функции, ограничиваются альтернативой: похвала ( – laus) или порицание (( – vituperatio)[30].
Таким образом, в панегирической речи подтверждается единодушное, всеобщее мнение о рассматриваемом «деянии» (res) на основе преимущественно бинарных возможностей утверждения или отрицания. Панегирик, как правило, утверждает и санкционирует определенный порядок власти и связанный с ним набор ценностей, прославляя его или же (в зависимости от обстоятельств) осуждая противника или противную сторону. Для панегирика показательна «идеология утверждения» и одновременно отрицания, в зависимости от того, о чем идет речь: о «позиции оратора и адресата» или «реального или предполагаемого противника» [Uhlenbruch 1979: 67]. Утверждение достойного охвалы «ныне» соотносится, как правило, с заслуживающим порицания «прежде», и эта оппозиция выражается часто в мифологических категориях (золотой век versus хаос, locus amoenus versus locus horribilis и т. д.). Привязанность к оппозиции «прежде – ныне», как правило, лишает панегирик процессуальности в изображении исторических событий. Переход от «мрака» к «свету», от «хаоса» к «космосу» в текущей политической и культурной действительности сиюминутен и изображается как нечто уже свершившееся.
Панегирик имеет преимущественно подтвердительно-описательный и одновременно (в бинарных категориях) оценочный характер. Это, однако, выражает лишь его базисную структуру: в дальнейшем будет показано, что панегирик выполняет зачастую более дифференцированные риторико-коммуникативные функции. Ведь эпидейктическая речь, несмотря на свою «а-дискурсивность», то есть сосредоточенность на предметах, «не нуждающихся в дискурсивном пояснении», не монофункциональна – она не только утвердительна или репрезентативна, но может носить, например, и прескриптивный или даже «субверсивный» характер [Kopperschmidt 1999: 14].
Обыкновенно панегирик – это стихотворение «на случай» (ad hoc, окказиональная поэзия), причем под «стихотворением» здесь понимается как мерная речь, так и проза. В этом ее качестве панегирическую литературу отличают три существенных признака: окказиональность, репрезентативность и функциональность[31]. Будучи литературной формой, возникающей, как правило, внутри придворного коллектива, панегирик отражает репрезентативные для этого коллектива официальные события (occasiones), которые в нем торжественно изображаются и прославляются. Достойными прославления поводами могут быть, в частности, важные события в жизни монарха и членов царской семьи (коронация, венчание, рождение, кончина и т. д.) или же победа в войне, заключение мира, посещение монархом какого-либо города и т. д. Панегирическое восхваление таких событий не просто одномоментно, оно регулярно повторяется (день коронации, день рождения, день смерти), подтверждая тем самым единодушное состояние двора (радость или скорбь), которое не должно прерываться, при этом двор метонимически олицетворяет все общество[32].
Следующий признак панегирика – репрезентативность – ни в коей мере не сводится лишь к пышной, бесцельной саморепрезентации двора, преследующей чисто эстетические цели. Эпидейктическое красноречие – это не просто риторическое «искусство ради искусства», как его часто определяют со ссылкой на Аристотеля[33]. Аристотель, предпринявший в своей «Риторике» первый опыт теоретической систематизации панегирика, отмечал, что эпидейктическое красноречие рассчитано на «наслаждающегося», а не «оценивающего» реципиента, которому важен главным образом стиль речи, а не ее содержание[34]. На основании этого эпидейктическое красноречие часто понималось исключительно как демонстрация ораторского мастерства[35]. Такое восприятие, однако, не учитывает значения функциональности панегирика, коренящейся уже в самом факте символического изображения власти. По замечанию Б. Хамбша, восхваление монарха и панегирик вообще изображают «в типизированной форме политические и моральные представления о норме как уже реализованные»; они служат «церемониальному приходу к власти или ее утверждению» [Hambsch 1996: 1379].
Придворный порядок, или придворная «истина», которая должна подтверждаться в панегирике как риторическая res certa, может быть, однако, еще не закрепившейся в обществе или совсем новой. Здесь проявляется другая функция эпидейктической речи: она может стать «убеждающим способом распространения и закрепления определенного порядка власти» [Hambsch 1996: 1379] – как это было в России Петровского времени – или нового режима, например, после смены власти. В таком случае панегирик участвует скорее в создании, а не в закреплении политических и социальных норм.
Придворный панегирик – это, таким образом, не только торжественное признание заслуженной монархом похвалы, но и (пусть только и в отдельных случаях) скрытая политическая речь (не исключающая подспудной критики)[36], направленная на то, чтобы связать правителя обязательством по отношению к нормам, сформулированным в речи или стихотворении. В этом смысле панегирик заключает в себе не только дескриптивное, описывающее, но и прескриптивное, предписывающее начало[37].
Этимологически понятие «панегирик» происходит от греческого слова , означающего торжественное собрание, на котором произносились хвалебные речи ( ), часто в честь какого-нибудь бога. Это тексты, изначально предназначенные для публичного восприятия. С формированием придворной культуры и придворной риторики это специфическое явление развивается в сложную коммуникативную ситуацию, которую Б. Уленбрух [Uhlenbruch 1979: 65] описывает следующим образом на примере русской придворной культуры:
Похвальная речь строится, как правило, на отношении Я (говорящий) – ТЫ (адресат), то есть, если следовать терминологии Якобсона, на эмотивно-коннотативной оси. Вокруг двоичности адресанта и адресата (эксплицитного реципиента) собирается более или менее четко очерчиваемый коллектив придворного общества, играющий роль имплицитного реципиента, перед которым исполняется прославляющий текст и который воспринимает прославляющий текст, так сказать, эстетически. Отправитель текста и царь вступают в своего рода (неполноценный) диалог, неполноценный потому, что царь, внимающий похвале, остается при этом «нем». Ритуал прославления и прославляющий текст исполняются в присутствии коллектива: поэт и царь играют роли адресанта и адресата, придворные же – роль зрителей в узком смысле и, как участники ритуала, роль статистов.
Характеристика Уленбруха требует дополнения и уточнения. Придворное общество, метонимически, как уже говорилось, представляющее все общество, играет роль не только «имплицитного реципиента», но и некоторым образом «имплицитного адресанта», оратор или поэт выступает выразителем общих чувств коллектива. Тем не менее прославляющий текст почти всегда основан на некой «правде», идеологии, являющейся, по определению, идеологией монарха: текст лишь условно обращается к монарху, а его (имплицитным) адресатом является коллектив, воспринимающий текст не только эстетически[38]. Прославляющий текст, как правило, подтверждает информацию, уже известную эксплицитному адресату, посредством пышного изображения чувств верноподданных (радости, скорби и т. д.).
С исторической точки зрения панегирик является продуктом эпохи Римской империи. Он возник в контексте формирования развернутого и сложного придворного церемониала и культа римского императора, чье исключительное положение по отношению к остальным смертным было концептуализировано при Диоклетиане (III в. н. э.) в кодификации придворного церемониала. Образцовым панегириком императорского времени была обращенная к Траяну благодарственная речь Плиния Младшего, озаглавленная «Panegyricus»[39]. Она задавала тон в последующее время и считалась эталоном этого жанра. Панегирик Плиния Младшего открывает сборник «XII Panegy-rici Latini» IV в., содержащий славящие императора речи, который часто издававался в период между XVI и XVIII вв.[40] Тот факт, что в сборнике «Panegyrici Latini» император именуется «sacratissime imperator» (священнейший император), свидетельствует об уже сложившемся отношении к его сакральности, которая не позже, чем при Константине, стала связываться с мыслью о богоизбранности.
В поздней античности и особенно в византийском Средневековье риторика представлена почти исключительно эпидейктическим красноречем. В придворной культуре судебная и политическая речи обыкновенно утрачивают свои функции, в то время как прославляющая торжественная речь получает все большее распространение. В отличие от текстов Аристотеля, «Риторики для Геренния» и Цицерона «О нахождении материала», уделявших использованию genus demonstrativum лишь небольшое внимание, позднеантичные и византийские трактаты посвящены исключительно эпидейктическому красноречию[41]; в них оратору даются точные указания, как прославлять богов, людей, города, страны и т. д. Кодификация эпидейктики совершилась, в частности, в контексте так называемой второй софистики, отмеченной наивысшим расцветом панегирической текстовой практики в античности[42].
В раннее Новое время жанр панегирика переживает очередной расцвет, так как развитие меценатства и абсолютизма поднимает спрос на репрезентацию и придворную литературу. Эпидейктическое красноречие и окказиональная лирика Возрождения и эпохи барокко ориентируются на классические образцы, которые в эту эпоху отчасти заново открываются, как, например, «Панегирик императору Траяну» Плиния. В культуре придворных празднеств XVII в. теория панегирика вооружает придворных поэтов риторическими правилами составления прославляющих текстов, которые вместе с произведениями других искусств (архитектуры, живописи, музыки и т. д.) интегрируются в мультимедиальный придворный церемониал. Эпидейктическое красноречие чествуется в это время как королевский жанр риторики, например, Н. Коссеном (Caussin), придворным проповедником Людовика XIII: то, что для Цицерона было не более чем игрой (ludus) и удовольствием (delectatio), Коссен определяет как «зрелое и окрепшее красноречие» (adulta et corroborata eloquentia), ибо «ничто так не услаждает утонченные умы» (nihil ad egregias mentes oblectandas potentius)[43].
Во второй половине XVII в. ренессансно-барочная традиция панегирика – в ее латино-польском варианте – проникает и в Россию. Здесь она сыграла решающую роль в утверждении новой придворной культуры и нового придворного церемониала. Латинская барочная традиция эпидейктического красноречия, первые русские образцы которого были созданы Симеоном Полоцким[44], вписалась на русской почве в уже подготовленный культурный контекст. Эпидейктическое ораторское искусство зародилось еще в Киевской Руси, под влиянием византийской риторики, образцы которой были переведены на церковнославянский язык: одновременно они содержали критерии составления текста, в русском Средневековье не опиравшиеся на метатекстовую, то есть кодифицированную в руководствах, риторику. «Слово о законе и благодати» Илариона было толчком для развития русского панегирика, достигшего в XV–XVI вв. в Москве своего расцвета. Эта церковная традиция, изначально отмеченная политической направленностью, особенно ярко раскрылась в жанре панегирической проповеди[45].
Благодаря Симеону Полоцкому панегирик приобретает новый статус, сохраняемый им вплоть до середины XVIII в. На основе нормативной риторической традиции, заместившей собою древнерусскую традицию, опиравшуюся на тексты, а не на правила, он становится основным жанром русской литературной системы. Возникновение русской литературы нового (сначала барочного) типа состоялось преимущественно в жанровом пространстве панегирика (в панегирических стихах, похвальных речах и панегирических проповедях), вследствие чего завезенные из Польши риторические правила на латинском языке были «переведены» в церковно-славянско-русские нормы составления текстов[46].
К началу XVIII в. панегирик становится важным инструментом популяризации и проведения Петровских реформ. В контексте общественных ритуалов, в которых визуальный аспект (иконография, жестика, одежда) играл первостепенную роль, панегирик выполнял скорее дополнительную функцию, но вместе с тем он стал важной вехой в развитии панегирического жанра в России. Феофан Прокопович, Стефан Яворский, Гавриил Бужинский и др. наполнили панегирическую проповедь и прославляющую речь новым общественно-политическим содержанием и вывели эти жанры за пределы придворной культуры[47]. Прескриптивная функция панегирика, служившая утверждению и консолидации нового режима, смягчается в 30-е гг. XVIII в., когда панегирик участвовал в становлении новой придворной культуры западного образца. Торжественная ода, возникшая на основе немецкой и французской одописи[48], стала основным субжанром русского панегирика. Одновременно она становится центральным объектом литературно-теоретических дискуссий о различных вопросах поэтического творчества: метрике, стиле, языке и т. д.[49]
Во второй половине XVIII в. панегирическая ода утрачивает свою исключительную роль в русской системе литературных жанров. В области высокого стиля она соперничает теперь с эпосом и философской одой. О начале конца панегирика свидетельствовало[50] развитие анакреонтического стиля М. М. Херасковым, продолжателем сумароковского направления в оде – классицистического, ориентированного в большей степени на денотативный, чем на метафорико-коннотативный уровень, и обновление языка оды Г. Р. Державиным, отступившим от строгого деления на стили. Не позднее чем к началу XIX в. в русской литературе наблюдается всеобщий переход от панегирического к элегическому жанру, и одновременно «центростремительная» придворная культура вытесняется возникшей под влиянием просветительства «центробежной» культурой, в которой поэт уже выступает не только в роли творца, но зачастую и разрушителя политической иконы. Панегирическая ода переживает последний, маньеристический, расцвет в поэзии С. С. Боброва и некоторых членов «Беседы любителей русского слова», в частности Д. И. Хвостова[51]. Младшее поколение архаистов, прежде всего Кюхельбекер, пытается вернуть прежнюю репутацию оде в теоретических размышлениях о развитии русской лирики в 1820-е гг. Посредством оды, в которой Кюхельбекер усматривал более философскую, нежели панегирическую, природу, должен был быть преодолен избыток «элегического тумана». Спорные теоретические позиции Кюхельбекера не оказали, однако, непосредственного влияния на литературу: как жанр ода – созвучно общеевропейскому развитию – уходит и из русской литературной системы[52].
3. Петербургский панегирик
Петербургский панегирик зародился спустя всего несколько лет после закладки Петропавловской крепости. В 1708 г., когда Петербург еще не был царской резиденцией и его существование постоянно находилось под угрозой из-за войны со шведами[53], Стефан Яворский выступил в тогда еще деревянной Троицкой церкви с циклом проповедей «Три сени», в которых Петербург прославляется как воплощенная «сень Христова», а Петр I – как новый апостол Петр[54]. Первое литературное приближение к Петербургу состоялось в прославляющей литературе Петровской эпохи, а не в одах Ломоносова и Сумарокова[55]. В похвальных речах и отчасти трансформированных в похвальные речи проповедях Стефана Яворского, Феофана Прокоповича и Гавриила Бужинского складывается культурная семантика новооснованного города[56]. Решающую роль в данном случае играло заимствование чужой традиции панегирического изображения города (laus urbium): наделявшийся топическими предикатами из этой традиции, Петербург вводился в легитимировавший его семантический контекст. Утвердившаяся со времен античности топика laus urbium, разработанная в приложении к Афинам, Риму, Константинополю и позже Флоренции, стала при этом источником ценностных критериев, соответствие которым ставило Петербург в один ряд со старыми и новыми историческими центрами. В этом контексте авторитет риторики был решающим, поскольку применение к Петербургу новых для русской культуры риторических критериев прославления уже само по себе являлось подтверждением того, что этот город достоин похвалы.
Параллельно с этим в петербургском панегирике Петровской эпохи складывается миф о демиургическом основании города, имеющий центральное значение для всей петербургской литературы. Участвуя в (пере)создании русской культурной идентичности, этот миф на символическом уровне представляет «новое рождение» России в результате реформаторской деятельности Петра, основавшего на берегах Невы образец микрокосмоса. Создавая образы своего и чужого, петербургский панегирик Петровской эпохи отчетливо отмежевывается как от «старой» русской культуры, так и от Запада: в проведении этой двойной границы Петербург, как децентрированный центр, играет решающую роль, конкретно и осязаемо воплощая собою нечто радикально «новое».
В эпоху русского классицизма место похвальной речи заняла торжественная ода, ставшая основным жанром петербургского панегирика. В текстах М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, В. К. Тредиаковского и др., вплоть до Г. Р. Державина[57], происходит сдвиг в изображении Петербурга: основное внимание уделяется теперь не легитимации его как царской резиденции и второй столицы, а в первую очередь его репрезентации как панегирической арены важных событий в придворной и политической жизни России. Наряду с петербургским панегириком появляется теперь и панегирическое изображение Москвы, «энтропизированной» в раннем панегирике, а теперь ресемиотизированной. В этом контексте мифопоэтический субстрат петербургского панегирика обретает новое измерение: параллельно с концептуализацией основания города как петровской космогонии с ее пресуществлением хаоса в космос появляется намек на возможность или опасность обратимости этого процесса.
К концу XVIII в. петербургский панегирик становится по преимуществу автореферентной системой: топика, разработанная в ходе столетия, предельно амплифицируется авторами последних панегириков – на место освоения чужих городских топик приходит aemulatio собственно петербургской топики, осложнение (Uberbietung) избитых мотивов и речевых шаблонов. Авторы этих панегириков ориентируются на своего хрестоматийного автора, а именно – Ломоносова, петербургская поэзия которого заменила классические образцы городских панегириков (Аристида, Клавдиана).
Петербургский панегирик завершается поэзией С. С. Боброва, которая, как и поэзия Д. И. Хвостова, подводит итог целой традиции и маньеристически ее осложняет[58]. Его поэзия была своего рода «имплозией» петербургского панегирика, который уже не мог далее разрабатываться, а мог лишь быть «перериторизован» на формальном уровне: в силу своего в основном утвердительного характера панегирик был не способен участвовать в начавшейся в начале XIX века критической переоценке Петербурга. На фоне ухода панегирика петербургская поэзия Боброва кажется пародийной кульминацией традиции, которой уже в 20-е гг. суждено было уступить место постпанегирической петербургской литературе.
Постпанегирическая петербургская литература, образуемая такими текстами, как «Прогулка в академию художеств» К. Н. Батюшкова (1814), «Петербург» П. А. Вяземского (1818), «Петроград» С. П. Шевырева (1829) и, прежде всего, «Медный всадник» А. С. Пушкина, выводит петербургский текст за рамки панегирического жанра: приевшиеся элементы панегирика теперь деконтекстуализируются и «пересаживаются» в новый философский, историософский и литературный контекст. В силу этой деконтекстуализации и – интертекстуально понимаемой – трансформации[59] петербургский панегирик продолжает жить в петербургской поэзии XIX в., прекратив, однако, существовать как традиция городского текста.
I
Хаос versus космос: мифопоэтика петербургского панегирика
Для смягченной мифологии Петербург слишком молод…
И. Бродский, Путеводитель по переименованному городу[60]
Петербургской литературе, согласно В. Н. Топорову [Топоров 1995], присущ связный мифопоэтический субстрат. Ее основоположная, непреодолимая дихотомия, ее колебание между апокалипсисом, бездной, гибелью, с одной стороны, и сотериологией, жизнью, формированием культурной идентичности – с другой, проявляется в петербургском тексте в том числе через параллельное существование двух мифов: мифа возникновения и мифа гибели (см. Введение, 1.2). В этом контексте петербургский панегирик осмысляется Топоровым [Топоров 1995: 335], созвучно общепринятому мнению[61], исключительно как носитель мифа о возникновении, как единодушное восхваление петровского «парадиза», окончательно вытеснившего природный хаос. Такая точка зрения не учитывает, однако, поливалентности петербургского мифа в панегирике. С одной стороны, панегирик прославляет космогонический акт Петра I, мифологическое возникновение Петербурга из первоначального хаоса. С другой стороны – петербургский панегирик регулярно указывает на опасность возвращения первоначального хаоса, грозящего разрушить культурный космос новооснованного города и, соответственный – петровской России. Эта угроза, как в дальнейшем будет показано, является частью более обширной проблемы сохранения, или восстановления, «петровской» сущности России – восстановления, в котором Петербург воплощает собою pars pro toto «новую» (петровскую) Россию.
В дальнейшем будет рассмотрен панегирический миф возникновения и указано на его параллели с космогоническими мифами. Панегирик концептуализирует основание города как ликвидацию предгородского хаоса, большей частью прибегая к топической формуле «где прежде… там ныне…». Созданный таким образом петербургский космос описывается в панегирике в основном с помощью мифологических пространственно-временных структур, что обусловливает его непрочность. Эти структуры для поддержания «стабильности» требуют регулярного повторения космогонического акта, одновременно означающего регулярное восстановление «петровской» сущности России.
В этом смысле в петербургском панегирике параллельно, хотя и в разной мере, присутствуют два мифа: миф о возникновении и миф о гибели. Несмотря на то что фольклорные легенды о гибели города интегрируются в петербургскую литературу лишь в эпоху романтизма[62]